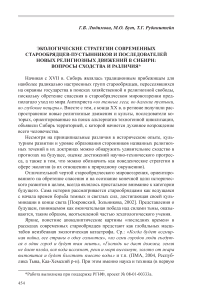Экологические стратегии современных старообрядцев-пустынников и последователей новых религиозных движений в Сибири: вопросы сходства и различия
Автор: Любимова Г.В., Бут М.О., Рубинштейн Т.Г.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521572
IDR: 14521572
Текст статьи Экологические стратегии современных старообрядцев-пустынников и последователей новых религиозных движений в Сибири: вопросы сходства и различия
Несмотря на принципиальные различия в историческом опыте, культурном развитии и уровне образования сторонников названных религиозных течений в их доктринах можно обнаружить удивительное сходство в прогнозах на будущее, оценке достижений научно-технического прогресса, а также в том, что можно обозначить как поведенческие стратегии в сфере экологии (в их отношении к природному окружению).
Отличительной чертой старообрядческого мировоззрения, ориентированного на обретение спасения и на осознание конечной цели исторического развития в целом, всегда являлось пристальное внимание к категории будущего. Сама история рассматривается старообрядцами как ведущаяся с начала времен борьба темных и светлых сил, достигающая своей кульминации в конце света [Покровский, Зольникова, 2002]. Представления о будущем, понимаемом как окончательная победа над силами тьмы, оказываются, таким образом, неотъемлемой частью эсхатологического учения.
Яркие, поистине апокалиптические картины «последних времен» в рассказах современных старообрядцев предстают как глобальных масштабов неизбежная экологическая катастрофа. Ср.: «Когда будет всемирная война, все страны в одну сольются», «из семи городов люди съедутся в один город и будут там жить», «Господь не даст дожжа, земля не даст плода, вся вода иссохнет, реки и моря высохнут, золото от жара вытопится и будет блестеть вместо воды» и т.п. (ПМА, 2004, Республика Тыва, Каа-Хемский р-н). При этом именно наука и техника (в первую очередь, военная) возводятся в старообрядческих произведениях в ранг непосредственных причин природных и социальных катаклизмов, которые неминуемо обрушатся на мир накануне Второго Пришествия и Страшного Суда – ср. названия сочинений енисейского писателя-старообрядца Афанасия Герасимова (Мурачева): «Предатомные предвестии» (1983), «Наука и техника природе убийца» (1984), «О конце света» (1994) и др. [Духовная литература, 1999; 2005].
Подобные воззрения перекликаются с доктринами ряда новых религиозных учений, идеологи которых проповедуют принципиальный отказ от использования научно-технических достижений, способствующих, как считается, движению современной цивилизации к глобальному экологическому кризису. Такова, к примеру, идеология самого крупного на сегодня учения Церкви Последнего Завета, адепты которого, более известные как последователи Виссариона, проповедуют исход из больших городов в сельские коммуны и построение на их основе экологических поселений.
Местом реализации указанного замысла с середины 1990-х гг. стали несколько деревень на юге Красноярского края, а также возведенная на Горе Сухой Обитель Рассвета, получившая статус «эконоосферного поселения». Заповедный участок сибирской тайги в районе озера Тиберкуль был объявлен территорией, обладающей особой «духовной аурой», а вся Сибирь – «единственным на земле местом», сохранившим «безграничное море нетронутого леса», и потому – способным принять огромное количество людей для формирования нового общества [Любимова, 2005].
Согласно главному источнику данного вероучения, «Последнему Завету», именно чистота земли, должна стать залогом «очищения» работающего на ней человека. Использование техники, означающей «привязанность к миру денег», допускается лишь в самых крайних случаях, поскольку сельскохозяйственная техника, как считается, «попирает» достоинство земли и «расслабляет» работающего на ней человека. Предполагается также, что в идеале человек должен питаться только тем, что вырастил на земле сам, и носить лишь то, что сшил своими руками [Последний Завет, 1997].
Разработанная идеологами учения концепция спасения предусматривает, таким образом, создание сообщества бескорыстных, гармонично сосуществующих с землей людей, отказавшихся от всех достижений современной цивилизации и возвратившихся к патриархальной жизни своих предков – крестьян [Григорьева, 2002]. Сходной модели поведения стараются придерживаться и проживающие в удаленных от мира скитах и поселениях старообрядцы, которые в своей повседневной жизни стремятся следовать раннехристианскому принципу «прокормления пустынника трудом рук своих» [Любимова, 2004].
Собранные в 2009 г. в ходе полевых исследований материалы позволяют выявить вопросы сходства и различия разработанных идеологами этих групп концепций спасения, а также те изменения, которые происходят в реальной жизни у представителей данных религиозных течений в настоящее время.
Все происходящие в мире события, как уже упоминалось, расцениваются старообрядцами как предопределенные. Образ советской власти в современных эсхатологических повествованиях отождествляется, к примеру, с одним из центральных образов Апокалипсиса – «седмиглавым» и «де-сятирожным» зверем, семь голов и десять рогов которого трактуются как олицетворение руководителей коммунистической партии и правительства [Покровский, Зольникова, 2002]. Многие из последователей Виссариона также убеждены, что две тысячи лет назад в Новом Завете были предсказаны основные события советской эпохи. В качестве аргумента приводится все та же числовая символика – ср.: «До войны в Советском Союзе было 10 республик, а всего в СССР было 7 правителей: Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев» (ПМА, 2009, Красноярский край, Курагинский р-н).
Облик Земли, как считают сторонники нового религиозного движения, в ближайшие годы радикально изменится – ср.: «Ковчег уже тронулся», «Нашу планету ожидают небывалые землетрясения, засухи, наводнения и прочие катастрофы» (природные катаклизмы рассматриваются при этом как «защитная реакция Земли» – живого, обладающего планетарным сознанием организма – на «неразумную и крайне опасную деятельность» людей). По этой причине идеологи движения призывают как можно скорее разработать и реализовать концепцию «Переходного периода», подразумевающую создание Общества на Духовной основе, живущего в гармонии с Природой. На базе общинного жизнеустройства предполагается развитие «малых производств, ремесел и народных промыслов», обеспечивающих экономическую независимость от внешнего мира, в том числе, от крупной промышленности, а также от состояния энергетических и дорожно-транспортных сетей. В качестве наиболее подходящего места для этого называется «юг Красноярского края», который оценивается как «наиболее стабильный в условиях возможных природных изменений на Земле» и куда в экстремальных ситуациях могут устремиться люди из пострадавших районов [Итоговые материалы, 2009] (как раз накануне традиционного праздника «Добрых плодов» произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС). Таким образом, «обновленное человечество» мыслится виссарионовцами как «неиндустриальное общество коммунистического типа», а тяга к преобразованию мира парадоксальным образом сочетается у них ( как и у староверов-пустынников - авт. ) с идеологией религиозного избранничества и «созерцательным мистицизмом» [Панченко, 2003]. По словам одного из первых последователей Висариона, с самого начала они «учились по-новому относиться к Природе и строить отношения между собой... Первое время Учитель не разрешал использовать электроинструменты. Нужно было показать Природе единение с нею. Но потом для ускорения процесса было разрешено пользоваться техникой» . Показательным представляется также замечание о том, что «при работе бензопилой психологическая усталость больше, чем от труда вручную» (ПМА, 2009).
Выявленное сходство в поведенческих стратегиях обитателей скитов и сторонников Церкви Последнего Завета (в том числе, строгое следование вегетарианству, а также минимальное использование современной техники), обусловлено тесным переплетением в их доктринах религиозной, трудовой и экологической этики. Вместе с тем, в зоне непосредственного контакта «паломников» (как называют последователей Виссариона местные жители) и старообрядцев, живущих преимущественно за счет охоты и рыбалки (деревни Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка и др.), сравнение их образов жизни обнаруживает существенные различия, в первую очередь, в отношении тех и других к природному окружению.