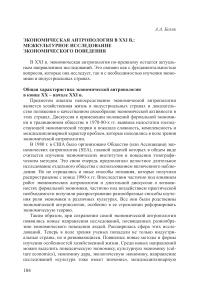Экономическая антропология в XXI в.: межкультурное исследование экономического поведения
Автор: Белик Андрей Александрович
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Наука и практика
Статья в выпуске: 1 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена отдельным аспектам развития экономической антропологии. Показаны новые направления в исследовании экономического поведения в связи с введением инновационных подходов к анализу эволюции человека и воздействия на него культурного фактора. В частности, рассматривается крестьяноведение как реализация идей А.В. Чаянова.
Сотрудничество как фактор эволюции, "экономический человек", принцип эгоистического поведения, крестьяноведение, предпринимательское и потребительское хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/14915172
IDR: 14915172
Текст научной статьи Экономическая антропология в XXI в.: межкультурное исследование экономического поведения
В ХХI в. экономическая антропология по-прежнему остается актуальным направлением исследований. Это связано как с фундаментальностью вопросов, которые она исследует, так и с необходимостью изучения экономики в индустриальных странах.
Общая характеристика экономической антропологии в конце XX – начале XXI в.
Предметом анализа непосредственно экономической антропологии является хозяйственная жизнь в индустриальных странах и доказательство положения о качественном своеобразии экономической активности в этих странах. Дискуссия о применении положений формальной экономики в традиционном обществе в 1970-80-х гг. выявила недостатки господствующей экономической теории и показала сложность, комплексность и междисциплинарный характер проблем, которые находились в поле зрения экономической антропологии.
В 1980 г. в США было организовано Общество (или Ассоциация) экономических антропологов (SEA), главной задачей которых в общем виде считается изучение экономических институтов и поведения этнографическим методом. Это свою очередь предполагало целостное длительное исследование отдельного общества с использованием включенного наблюдения. Но не отрицались и иные способы познания, которые получили распространение с конца 1990-х гг. Впоследствии частично под влиянием работ экономических антропологов и длительной дискуссии о возможностях формальной экономики, частично под воздействием практической необходимости получили распространение разнообразные способы изучения роли экономики в различных культурах. Все они были родственны экономической антропологии, особенно в ее стремлении реформировать экономическую теорию.
Таким образом, при сохранении самой экономической антропологии появились новые направления исследований, посвященных разнообразию экономического поведения людей. Расширилась сфера этих исследований. Теперь в поле зрения ученых попадали не только индустриальные страны, но и развивающиеся. Появились новые методы и формы изучения особенностей хозяйственной жизни. Среди новых направлений можно выделить поведенческую экономику, культурную экономику (culture economics), экономику дара, экологическую экономику, направление исследований «культура тоже имеет значение», междисциплинарную область «культура и экономика», в которой отдельно выделяется экономика религии (или религия и экономика). В российской науке наряду с классическими исследованиями в области экономической антропологии широкое распространение получила экономическая психология, в частности психология и антропология денег. Эти исследования составляют часть поведенческой экономики.
Особую роль играет область практического применения данных антропологии – антропология и бизнес или бизнес-антропология. Современная экономическая теория игнорирует значение культурного разнообразия, но потребности изучения маркетинга в разнообразных культурных условиях направляют вектор исследования в определенной плоскости. Поэтому были выполнены специальные исследования в области дизайн-этнографии (новые продукты и формы сервиса) и в виде антропологического анализа поведения покупателей на рынке. Кроме того, в сферу бизнес-антропологии входит изучение процессов индустриализации, особенностей маркетинга и менеджмента в незападных странах. Этой области исследования придают существенное значение в США. Неслучайно статья «Антропология и бизнес» в пятитомной энциклопедии по антропологии является одной из наиболее весомых и информативно насыщенных. Подчеркнем, что перечисленные направления хотя и самостоятельны, однако тесно увязаны с экономической антропологией и даже зависят от нее. Представление о разнообразных направлениях исследования экономической антропологии дает сборник работ «Руководство по экономической антропологии» (2005). Он представляет всестороннюю антологию работ, охватывающую практически всю сферу исследований экономической антропологии и родственных с ней направлений – от экономики дара до региональных исследований особенностей хозяйственной жизни.
Идеи А.В. Чаянова и влияние культуры на сельскохозяйственный труд
Особую роль в экономической антропологии конца ХХ – начала XXI в. играет крестьяноведение – изучение крестьянских хозяйств как развитых индустриальных стран, так и многочисленных африканских и азиатских культур 1 . Сильнейшим стимулом для развития данного направления стало открытие идей русского экономиста А.В. Чаянова в 1980-х гг.
Итак, в чем особенности крестьянского хозяйства, по Чаянову? Цель такой формы хозяйства состояла не в извлечении прибыли, а в поддержании крестьянской семьи, в обеспечении ее потребления. Для капиталиста-предпринимателя (фермера) важен не столько валовой доход, сколько прибыль. Если, например, в результате изменения условий возрастет трудоемкость продукции, вырастет зарплата и соответственно уменьшится прибыль, то фермер, согласно Чаянову, воздержится от таких затрат. Трудовое же крестьянское хозяйство будет расширять производство, увеличивать приложение труда даже в том случае, если прибыль снижается – лишь бы увеличивался валовой доход, а следовательно, и возможность занять все трудовые ресурсы крестьянской семьи и обеспечить ее потребление.
Когда же осуществлялся переход от натурального хозяйства к товарному, то указанный специфический характер хозяйства не менялся, так как его целью по-прежнему оставалось не получение прибыли, а поддержание потребления. Такая специфика накладывала отпечаток на все экономические отношения крестьянского хозяйства. Землепользование, структура производства, привлечение капиталов – все это определялось тем, что крестьянское хозяйство в конечном итоге – это не предпринимательское, а потребительское хозяйство. Особенности трудового крестьянского хозяйства довольно близки к производству продуктов в традиционном обществе, которые описывали классики экономической антропологии. Идеи Чаянова дали толчок для активного изучения экономическими антропологами современных крестьянских хозяйств. Отметим, что значительную роль в развитии сельского хозяйства сторонники Чаянова отводили психологическим факторам, психологической атмосфере на селе. Так, автор исторических работ о российском сельском хозяйстве Н.П. Макаров выделял эмоциональные факторы развития в сельском хозяйстве. «Прежняя этическая ненависть к буржуазным элементам крестьянского хозяйства или этическая идеализация его трудовых элементов – все это начинает уступать активному настроению, родившемуся в результате здоровых процессов как в недрах крестьянства, так и в рядах русского интеллигентного общества; деловому подходу к жизни должен был соответствовать и соответствующий подход в теории. Любование здоровым хозяйством – вот социально-этический пункт, который выведет ход русской аграрной мысли из ее земельных тупиков». Макаров неоднократно упоминал «здорового мужика, знающего чувство «праздника работы и любования хорошим хозяйством» 2 .
Предметом исследования Л. Кьюзо, П. Сапиенца и Л. Зигалес являются страны и этнокультурные общности, занимающиеся преимущественно сельскохозяйственным трудом. В статье «Влияет ли культура на результаты экономики?» (2006) они детально рассматривают вопрос, вынесенный в заголовок, на примере различных общностей Африки и Южной Америки в сравнении с индустриальными обществами. Все эмпирические данные авторы обработали современными математическими методами, аргументировано показав значимость культурного фактора для экономики.
В заключение статьи авторы приводят, на наш взгляд, весьма интересные примеры влияния культуры на экономику, полученные при анализе за длительный период времени на основе сравнения различных районов США Дж. и С. Саломон в работе «Наследие прерий: Семья, хозяйство, общность» (1992)3. Они сравнивали хозяйственную деятельность в одина- ковых природных условиях германо-католиков Иллинойса, поселившихся там с 1840-х гг., и наследников янки (первых поселенцев, уроженцев Новой Англии, протестантов) из других частей США – Кентукки, Огайо, Индианы. Были выявлены «существенные различия в структуре земельной собственности, фермерской практики, рождаемости, выборе сельскохозяйственных культур. Германо-католики никогда не продавали землю и имели в среднем больше детей, ввиду этого выращивали трудоемкие культуры, требовавшие интенсивного труда, используя своих детей. Янки рассматривали фермерство как бизнес, продавали и покупали землю, выращивали нетрудоемкие культуры, такие как кукуруза, и имели немного детей. Интересно, что, несмотря на то что способ ведения хозяйства янки был в целом более прибыльным, германо-католическая модель не стала менее распространенной за полтора века ввиду высокой рождаемости немецких католиков». Вот так. Даже одна подобная реальная история может опровергнуть сотни статей об «экономическом человеке».
Таким образом, авторы исследования показали зависимость экономики от культуры различными способами при помощи современных методов, принятых в экономической теории и в социальных науках в целом. Правда, нельзя не высказать сомнение в том, что современные статистические методы дают более достоверную информацию, нежели этнографическое наблюдение или историческое исследование. Факты историко-сравнительного изучения особенностей хозяйственной жизни германо-католиков и янки не менее убедительны многочисленных корреляций. Приверженность традициям в ущерб прибыли на протяжении почти 150 лет – вот неопровержимое доказательство существования других моделей экономического поведения даже в индустриальных странах (США), иных по сравнению с «экономическим человеком». В XXI в. в США существуют две модели сельскохозяйственного труда. Первая, описанная Чаяновым, – потребительская (довольно близкая к формам ведения хозяйства в традиционном обществе, которые изучали антропологи в ХХ в.), вторая – предпринимательская.
«Экономический человек» в кросс-культурной перспективе
Примером классического исследования в экономической антропологии является межкультурное исследование 15 небольших общностей, разбросанных по всему миру, осуществленное под руководством Дж. Генрича. Результаты этой большой работы получили отражение в коллективной монографии «Основания человеческой социальности. Экономические эксперименты и этнографические свидетельства из 15 маленьких обществ» (2004). Год спустя, в 2005 г., в сжатом виде авторы изложили результаты исследований в статье «Экономический человек» в кросс-культурной перспективе. Поведенческие экономические эксперименты в 15 обществах» (2005). Важнейшей особенностью рассматриваемого проекта является одновременное этнографическое изучение и применение экспериментальных методов, используемых в экономических исследованиях, основанных на теории игр. Указанное сравнительное исследование представляет попытку не только выяснить (в очередной раз!) применимость понятия «экономический человек» для анализа хозяйственной жизни в традиционном обществе, но и выдвинуть оригинальные гипотезы относительно природы человека и фиксации некоторых качеств индивида в его телесной организации. Так, авторы выдвигают положение о том, что культура может воздействовать на органическую основу человека и влиять на изменения в его геноме. Дж. Ген-рич и его коллеги не просто отвергают модели поведения, созданные в экономической теории, но предлагают свое объяснение происхождению социально ориентированных стереотипов поведения.
Итак, конкретная задача исследования Дж. Генрича – выяснить соответствие модели поведения, основанной на корыстных интересах индивида, стереотипам поведения, существующим в хозяйственной жизни 15 различных культур. Первые сомнения в жизненности модели «экономического человека» были высказаны практически с начала экспериментального изучения экономического поведения еще в 1980-х гг. В дальнейших исследованиях показано, что корыстных индивидуалистов в группе не любят и стремятся их изолировать и даже наказать. В группе присутствует стремление к справедливому распределению и т.д. Правда, все же результаты анализа, проведенного в предшествующие годы, не позволяли дать общей картины явления. Дж. Генрич и его коллеги решили осуществить полноценное межкультурное исследование, которое могло бы проверить эгоистическую аксиому – «предположение о том, что индивиды стремятся к максимизации своей выгоды (прибыли) и полагают, что и другие поступают так же» 4 .
Объектами изучения были выбраны небольшие общества из 12 стран, расположенных на четырех континентах. Среди них охотники, собиратели (хадза, ламалера), группы, совмещающие огородничество с охотой и собирательством (эю, аче, гнею), огородники ( мачигуенга, кечуа, ачуар, тсимани), скотоводы (тургуты, казахи, орма), агропасторалисты (сангу) и мелкие фермеры (мапуче, шона) 5.
Общие результаты исследований авторы суммировали в следующих положениях:
«Во-первых, нет общества, в котором эгоистическая аксиома полностью подтвердилась; во-вторых, существует значительно большее разнообразие в групповом поведении, чем наблюдалось ранее, социальное поведение оказалось более гибким; в-третьих, различия в вовлеченности в рынок и в локальной важности кооперации объясняет в значительной мере поведенческие вариации среди групп; в-четвертых, индивидуальный уровень экономического и демографического разнообразия не объясняют особенности поведения внутри и между группами; в-пятых, экспериментальная игра часто отражает образцы взаимодействия, существующие в повседневной жизни»6.
В рамках статьи авторы неоднократно касались оценки эгоистической аксиомы, но каждый раз квалификация корыстного поведения была одинакова: «Эта аксиома нарушалась в каждом обществе, которое мы изучали во всех трех видах экономических игр».
Несмотря на большое разнообразие результатов экспериментов, для традиционных обществ типичным был итог исследования (проведение экономической игры, в процессе которой необходимо поделить какое-либо благо с другим человеком) среди охотников ламарела (Индонезия), где 63% участвующих в эксперименте поделили пирог пополам, а большинство из оставшихся отдали больше половины (по подсчетам антропологов – 58%) 7 .
Но не эту цель ставили исследователи. Их интересовали ключевые вопросы человеческой природы: является ли отрицание экономической модели универсальным образцом поведения человека как вида? Стремление к справедливости и к наказанию за несправедливость есть качество индивида, вытекающее из таких его свойств, как пол, возраст, образование, или это качества группы, в которую входит индивид? Другими словами, авторов интересовали ответы на вопросы, касающиеся особенностей деятельности человека как рода, можно даже сказать шире – сущности природы человека.
Для ответа на ключевые вопросы науки о человеке авторы привлекли культурно-генную теорию коэволюции. Обратим внимание на то, что речь идет о культурно-генной теории, а не генно-культурной теории, как у создателей теории коэволюции. (Теория коэволюции давала возможность равноправного участия в эволюции и генам, и культурам, но на деле учитывала лишь фактор генов.) Таким образом, авторы обосновывают свою точку зрения, опираясь на положение о влиянии культуры на генетическую основу человека. «Для нашего вида культурно обусловленные способности могут быть наилучшим образом поняты как сложный социальный механизм научения, позволяющего с минимальными затратами адаптировать поведение под местные условия и актуальную информацию. Так как эти формы социального научения создают кумулятивные эволюционные продукты на поколения (например, технологии) так же хорошо, как разнообразное и стабильное равновесие в социальных взаимодействиях (институциональные формы), которыми оперируют в значительно более короткое время, чем генетическая эволюция, то культурная эволюция и ее продукты оказывают непосредственное влияние на генотип человека»8. Такой теоретический подход предполагает, что люди снабжены механизмом обучения, направленным на четкое и эффективное усвоение мотиваций и пред- почтений, применимых для локальных культурных условий и содержащих социальное равновесие (институты).
Авторы полагают, что их «работа (как и многие другие) показала, что такие качества, как справедливость, симпатия и равноправие, существенны для понимания функции предпочтения многих людей и могут быть эффективно интегрированы с такими вещами, как удовольствие, безопасность, приспособленность, для более полного понимания человеческого поведе-ния» 9 . В период раннего расселения человечества различные популяции адаптировали свое поведение в соответствии с экологическими условиями (от тропических лесов Новой Гвинеи до арктических областей Сибири) и со временем культурно эволюционировали в направлении соответствующих форм социальной организации.
Дж. Генрич и его коллеги пришли к выводу, что «люди наделены культурно обучающим механизмом, который позволяет нам усваивать верования и предпочтения, соответствующие локальному социальному окружению; что человеческие предпочтения программируются и часто интернализуются так же, как аспекты наших кулинарных и сексуальных предпочтений» 10 .
Все высказанные авторами предположения базируются на двух фундаментальных допущениях:
-
1) люди усваивают свое социальное поведение посредством культурного обучения;
-
2) как следствие первого обстоятельства – общества с различной траекторией исторического развития достигают соответствующих социальных форм стабильности.
Второе положение доказывается в рассматриваемом исследовании Дж. Генрича, как и во многих других работах. Первое же стало очевидным после многочисленных работ психологов, антропологов и этологов.
Касаясь первого фундаментального положения, на основе которого Дж. Генрич сделал вывод, что люди усваивают социальное поведение в процессе культурного обучения, необходимо дополнить. Речь идет об изучении самых ранних периодов детства (от рождения до 2 лет) в этологии человека в середине 1970-х гг. и в последующие периоды. Наиболее важны особенности поведения в самом раннем детстве. Новорожденный – альтруист и эгоист одновременно, но самое главное, что кроется в аспекте изучения экономического поведения, – он бескорыстен. У младенцев есть явно выраженный вектор их активности, т.е. к общение с окружающими людьми. Их радует любая совместная деятельность. Если это выразить на языке экономического поведения, то у маленького ребенка будет явно выражено предпочтение к общению – коммуникации и кооперации с другими людьми. Если ребенок будет по каким-то причинам лишен человеческого окружения (например, феномен или синдром маугли), то он не станет человеком вообще или полноценным человеком.
Таким образом, для биологического развития ребенок должен общаться с людьми и осуществлять с ними какую-либо деятельность (все дети любят делать это). И. Эйбл-Эйбесфельдт отмечал в различных культурах наличие спонтанного образования социальных связей в раннем детстве.
Итак, ребенок с рождения запрограммирован на тесное эмоциональное общение, которое дает ему возможность стать полноценным человеком в единстве духовного и биологического аспектов и приобрести ценности локальной культуры. Важным дополнением к особенностям локальных культур является качество рода человеческого, т.е. предпочтения младенцев, которые практически одинаковы во всем мире, глобальны.
Публикация книги и особенно статьи Дж. Генрича и его коллег вызвало громадный интерес и положило начало оживленной дискуссии в 2005 г., которая сама дает продуктивный результат и продолжается по сей день.
Генрич поместил проблему экономического поведения в исторический и эволюционно-экологический контекст. Он рассматривает более сложную цепочку взаимодействий по сравнению с другими авторами. У них экономическое поведение связано с экологическими условиями, эволюционными процессами и соответственно особенностями локальных культур. Особенно важно то, что основы описываемого Генричем и его коллегами поведения зафиксированы, по их мнению. В генотипе и процессе эволюции изменения в культуре, образе жизни фиксировались в телесной организации индивида.
В рассматриваемой статье, однако, нет ответов на все поставленные вопросы, но путь анализа проблем нельзя не признать интересным и продуктивным, и что очень важно, он помогает преодолеть ограниченность дарвинистов с их борьбой за существование, ставит на первое место стереотипы сотрудничества.
Итак, в рамках экономической антропологии в XXI в. появляются два новых подхода: рассмотрение сотрудничества как фактора эволюции и отражение этого процесса в генотипе, а также анализ воздействия культуры на геном человека. Нельзя не согласиться, что данные аспекты рассмотрения существенно влияют на экономическое поведение.
Список литературы Экономическая антропология в XXI в.: межкультурное исследование экономического поведения
- Семенов Ю.И. Крестьяноведение. Концепция крестьянства и крестьянских общин в современной экономической антропологии (этнологии)//Социокультурная антропология: история, теория, методология. М., 2012.
- Nadeau K. Peasant Societies//21st Century Anthropology. A Reference Handbook. L., 2011.
- История экономических учений. М., 2009. С. 442.
- Salomon J.T., Salomon S. Prairie Patrimony: Family, Farming and Community in the Midwest. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992.
- Guiso L., Sapienza P. Zigales et al. Does Culture Affect Economic Outcomes?//Journal of Economic Perspectivу. 2006. Vol. 20. № 2. P. 45.
- Henrich J., Boyd R., Bowels S., Camerer C., Fehr E., Gintis H., McElreath R., Alvard M., Barr A., Ensminger J., Henrich N.S., Hill K., Gil-White F., Gurven M., Marlove F.W., Patton J. Q., Tracer D. Economic man in cross-cultural perspective. Behavioral experiments in 15 small-scale societies//Behavioral and Brain Sciences. 2005. Vol. 28. P. 797.