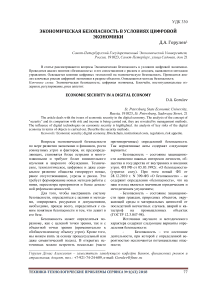Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики
Автор: Горулев Денис Алексеевич
Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps
Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса
Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики. Проводится анализ понятия «безопасность» и его сопоставления с риском и доходом, выявляются методами управления. Освещается влияние цифровых технологий на экономическую безопасность. Проводится анализ ключевых рисков цифровой экономики в разрезе объектов. Описываются методы безопасности.
Экономическая безопасность, цифровая экономика, блокчейн, институциональные издержки, регулирование, риск аппетит
Короткий адрес: https://sciup.org/148186413
IDR: 148186413 | УДК: 330
Текст научной статьи Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики
Вопросы экономической безопасности по мере развития экономики и финансов, роста совокупных угроз и факторов, их предопределяющих, становятся более острыми и многоплановыми и требуют более внимательного изучения и широкого обсуждения. Техническое, технологическое, цифровое и даже социальное развитие общества генерирует новые, ранее отсутствовавшие, угрозы и риски. Это требует формирование новых методов работы с ними, пересмотра приоритетов и более детальной рефлексии ценностей.
Для того, чтобы выстраивать систему безопасности, определяться с целями и методами, оперировать ресурсами и допущениями, необходимо, прежде всего, определиться с самим понятием безопасности и тем, что лежит в его безе.
Безопасность может определяться по-разному, как с целевой точки зрения, так и с объектной точки зрения (применительно к обобществленному объекту угроз). Кроме того, мы можем взять за основу процессуальный или даже симантический подход. В открытых источниках можно встретить несколько (часто противоречивых) определений безопасности. Так нормативные акты содержат следующие варианты:
-
- Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. ФЗ РФ от 05.03.1992г. «О безопасности» (утратил силу). При этом новый ФЗ от 28.12.2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» – не содержит определения «безопасность», что на наш взгляд является значимым юридическим и методическим упущением;
-
- Безопасность – состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах (ГОСТР 12.3.047-98).
Источники научного и методического характера содержат следующие варианты определения безопасности:
Однако, говоря о безопасности, мы должны для себя определить ключевые точки целеполагания. Что для нас является дуальной противоположностью опасности - безопасность или возможность? В системе управления рисками имеются различные инструменты снижения опасности, но, на наш взгляд, полное избавление от опасности (или от риска в более широком смысле, как вероятностной характеристики опасности в потенциале), влечет за собой неизбежно и отказ от возможностей. Таким образом, при построении системы безопасности нам необходимо определиться с допустимыми уровнями риска (или опасности в более узком смысле), как с т.з. их управляемости и прогнозируемости, так и с т.з. возможных последствий их реализации, в т.ч. кумуляции и мультипликации.
Таким образом, мы предлагаем для целей дальнейшего рассуждения определить безопасность, как такое состояние системы (объ-екта/субъекта/ процесса/деятельности), при котором с определенной вероятностью исключается риск неуправляемых неблагоприятный последствий. Это приводит нас к ситуации выбора нашей точки на кривой риск/доходность, которая будет определять нашу склонность к риску (риск аппетит). Как следствие, при прочих равных, чем выше риск, тем ниже ликвидность, что закономерно. Поэтому любой субъект (от человека до государства) определяет для себя применительно к каждому из объектов риска допустимость этих соотношений исходя из своего целеполагания.
Следовательно, безопасность - есть управляемый риск. И ключевой вопрос состоит не только в принятии и контроле должного (допустимого) уровня риска, но так же в выборе ключевых инструментов управления рисками и их соотношения, исходя из специфичности и не повторяемости (с т.з. субъекта, принимающего решение) тех объектов, которые затронуты риском и могут быть подвержены уничтожению, изменению или утрате в результате реализации риска. Основными инструментами работы с рисками являются:
-
- Избегание/передача риска;
-
- Привенция риска;
-
- Репрессия риска;
-
- Элиминирование риска (убытков);
-
- Финансирование риска.
Каждый из инструментов имеет как свои достоинства, так и недостатки и, как правило, применяется во взаимодействии с каким-либо другим инструментом.
Когда мы говорим об объектах, которые подвержены риску (опасному воздействию), мы можем выделить достаточно большой перечень даже агрегированных единиц и, как следствие, должны определиться и с пообъектным приоритетом. Так, мы можем говорить о таких видах безопасности, как физическая, физиологическая, экономическая, социальная, информационная, экологическая, военная, цифровая, политическая, территориальная, продуктовая и даже когнитивная. В этой ситуации встает вопрос выбора приоритета, поскольку мы сталкиваемся с «противоречиями» (особенно в краткосрочном горизонте) разных видов безопасности, например, экономическая может противоречить экономической, а социальная, когнитивной и т.д. Как следствие, мы вынуждены преодолевать антагонистические противоречия и взвешивать свои решения на базе альтернативных издержек. Экономическая безопасность, по идеи должна вбирать в себя все эти виды безопасности и выступать интегратором общего интереса, однако, в современной экономике, особенно с учетом фактической ограниченной рациональности субъектов, принимающих решения, мы имеем дело с условным противоречием между индивидуальными и коллективными (общественными) приоритетами, в т.ч. в области безопасности.
Решение вопросов экономической безопасности во многом зависит от развитости институциональных основ общества, от преобладания тех или иных институтов, и от того, насколько гармонизированы формальные и неформальные институты, насколько неформальные институты являются экстрактивными и инклюзивными. А с учетом того, что Россия находится последние 30 лет в состоянии институциональных изменений, этот фактор в значительной мере влияет и на вопросы экономической безопасности.
Сами институциональные изменения могут порождаться как трансформацией экономического или социального базиса, так и сами выступать первопричиной изменения послед- них. Базовый спор политэкономистов и институционалистов о первичности экономических предпосылок или институтов является краеугольным камнем современной экономики. Представители политэкономической школы полагают, что географические, климатические, военно-исторические и иные объективные предпосылки (факторы) предопределяют уровень и потенциал развития страны (государства, территории), а институты лишь фиксируют и рефлексируют данный экономический базис в формальных институциональных источниках (законах, нормативных актах, правоприменительной практике) и складывающихся неформальных институтах, дополняющих первые. Так, например, Россия имеет значительное отставание в экономическом и ряде аспектов социального и даже правового развития в силу северности территорий, большом количестве войн, пришедшихся на исторический период последних 200 лет, большой территориальной дифференциации и т.д. В свою очередь представители институциональной школы полагают, что мы можем наблюдать ситуации, когда при равенстве базовых экономических предпосылок, именно в результате различия в институтах, мы получаем принципиально различный эффект экономического развития. Ярким примером может служить Северная и Южная Кореи, Япония, Израиль, Западная и Восточная Европа, Южная и Северная Америка и т.д.
Развитие экономики, в т.ч. ее усложнение и диверсификация происходящих в ней процессов, особенно в финансовом секторе, с одной стороны, и новый виток развития информационных систем и технологических решений на их базе, формируют новые вызовы к трансформации всех отношений в экономике и, как следствие правовых и институциональных изменений.
Говоря о вопросах развития цифровизации и цифровой экономики, необходимо рассмотреть вопрос экономической безопасности в двух разных аспектах: в аспекте дигитализации и последующей цифровизации системы коммуникаций между различными субъектами и в аспекте собственно цифровой экономики. И если цифровизация классических процессов влечет за собой скорее трансформацию каналов, по которым транслируется и ретранслируется информация персонального, производственного, финансового и любого другого характера, то цифровая экономика - это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, предполагающая наличие электронных товаров и сервисов, производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией. Цифровая экономика характеризуется главным признаком - создание (формирование) добавочной стоимости посредством генерации цифровых экономических благ.
Цифровая экономика базируется на электронно-цифровых новациях, таких как:
-
- Технологии цифровизации деятельности;
-
- Сквозные цифровые технологии;
-
- Информационно-коммуникационные технологии;
-
- Технологии физической и дополненной реальности;
-
- Сети P2P, Блокчейн.
В сложившейся ситуации важнейшим элементом трансформаций в ближайшее время станут решения на базе финансовых технологий и технологические новации, которые могут выступить как драйвером экономической безопасности, так и генератором новых угроз и рисков.
Цифровизация базируется на технологических решениях, которые в свою очередь трансформируют институциональные отношения (от неформальных институтов к формальным), далее востребуются бизнесом, который начинает предъявлять и формировать как новые технологические решения, так и новые институты, позволяющие выстраивать бизнес отношения в новых условиях. Ярким примером может являться и появление мобильных телефонов или переход к ICO и другие проявления. При этом, если мы говорим, что экономика, в которую мы входим в условиях 4-го экономического уклада, то это будет, во-первых, «экономика талантов», а во-вторых «регенеративная экономика», то обеспечение институциональных основ ее развития и экономической безопасности, связанных с ними, становится важнейшим элементом.
Рассматривая институциональные изменения, необходимо отметить, что любые институциональные изменения ведут к пересмотру как минимум трех ключевых параметров, определяющих функционирование любой системы, а именно:
-
1. Ограничений
-
2. Приоритетов
-
3. Отношений
Любое институциональное (нормативное, правовое, «отношенческое») изменение порождает и накладывает на каждого участника отношений новые ограничения. Это отражает- ся, как правило, на каждом участнике отношений, начиная от базового субъекта, например, генератора продукта (бизнес активности), потребителя, регулятора, посредников, общества в целом и т.д. Так, например, применительно к финансовому рынку, введение более жесткой регламентации со стороны мегарегулятора (ЦБ РФ) в отношении поднадзорных ему субъектов финансового рынка, деятельности в отношении исполнения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в дальнейшем 115-ФЗ), привело к ситуации, когда, например, на рынке страхования и на рынке иных небанковских финансовых услуг возник практически коллапс. Так страховщик (или иной субъект) для принятия на обслуживание клиента (даже, например, в отношении договора ОСАГО, являющихся обязательными и, как следствие публичными), обязан предварительно собрать достаточно подробную, далеко не всегда доступную или предоставляемую клиентом информацию. И до момента сбора (получения) полной информации о клиенте, не может принимать клиента на обслуживание. А в случае неисполнения данного требования это приводит к достаточно серьезным санкциям, вплоть до отзыва лицензии. Это накладывает ограничения на страховщика по поводу возможности свободно, на базе экономической рациональности, привлекать и принимать на обслуживание страхователей, в которых заинтересован страховщик. Это же накладывает и значительные организационные ограничения и на страхователя, у которого, по факту, ограничивается право свободного приобретения страховой защиты. То же самое происходит и с регулятором, который вынужден контролировать не столько экономическую эффективность института страхования ответственности, сколько соблюдение формальных процедур, которые не всегда отражают сущность экономического явления.
Изменение ограничений приводит к тому, что изменяются и приоритеты, и ценности осуществления той или иной деятельности. Например, если при меньшей регулятивной нагрузки и, как следствие, не избыточности санкций, приоритетом для страховщика являлось увеличение числа клиентов (страхователей), расширение своего портфеля, увеличение выручки, активная аквизиционная работа, то в условиях избыточного регулирования по 115-ФЗ (или, например, изменение ситуации на рынке с т.з. экспоненциального роста страхового мошенничества), приоритет страховщика смещается в область избегания санкционных воздействий со стороны регулятора (или борьбу со страховым мшенничеством). Это приводит к тому, что при прочих равных, страховщику становится целесообразней отказаться от принятия на обслуживание страхователя, чем подвергать себя риску штрафных или иных санкций. В тоже время, страхователю становится в ряде случаев целесообразней отказаться от страхования в пользу иных методов управления рисками, а в случае обязательной формы страхования, прибегать к таким фальсификатам, как поддельные полиса или оплата штрафов за их отсутствие, нежели преодоление проблем, связанных с приобретением полиса в соответствии со всеми регламентами. Это порождает и смещение приоритетов надзора с прямого регулирования, и развития рынка, на преодоление возрастающего мошенничества и неучтенных рыночных рисков регулятора.
Трансформация приоритетов влечет за собой и изменение отношений между участниками и ключевыми стейкхолдерами. Меняется не только отношение к объекту, подверженному институциональному воздействию, но и отношения между субъектами, затронутыми институциональными трансформациями. Возникает крайне интересный эффект, который проявляется в повышении индивидуальной рациональности на базе псевдо-кооперации, при фактическом росте общего оппортунизма в системе отношений. Этот эффект мы можем в настоящее время наблюдать на банковском рыке в целом (системно), когда при рациональном подходе к обеспечению экономического роста, каждый субъект (стекхолдер) исполняя свою функцию (ЦБ, Минфин, МЭР) привносит оппортунистический эффект в решение общей задачи. А на финансовом небанковском рынке мы скорее наблюдаем его частные проявления, как, например, между страховщиком, страхователем и посредником, или заемщиками и мик-рокредитными организациями, когда каждый из означенных участников порождает в отношениях с контрагентом намеренную недоинфор-мированность и, как следствие трансформацию рисков.
В этой ситуации возникает ключевой вопрос – что же происходит, если институцио- нальные (или в более узком смысле правовые) изменения возникают при отсутствии экономической базы (должных экономических предпосылок) для данных изменений? Анализ ситуации показывает, что в этом случае мы имеем дело с проявлением двух взаимосвязанных явлений:
-
- рост издержек каждой группы субъектов;
-
- проявление регулятивного арбитража.
Как следствие, экономически рациональные субъекты начинают задумываться о поиске инструментов, позволяющих снизить издержки, возникающие в связи с избыточной регулятивной (или в более широком смысле институциональной) нагрузкой. И мы начинаем сталкиваться с проявлением такого явления, как «регулятивный арбитраж», когда, схожие виды экономической деятельности регулируются с разной степенью интенсивности и, как следствие, бизнес стремится перейти туда, где регулятивная (или обще институциональная) нагрузка ниже. На страховом рынке таки ярким примером является разница между агентами и брокерами, а на рынке кредитования - между банками и микрокредитными организациями. При этом в условиях институциональной незрелости имеется, как правило, значительное поле для проявления регулятивного арбитража. Это влечет за собой, как следствие, общее сокращение институционализированного рынка (поля на котором взаимодействуют субъекты). И, как следствие, снижение общего уровня экономической безопасности.
Ключевая проблема состоит в этом случае в мультипликации данного эффекта. Так, в условиях нарастания кризисных или квази-кризисных явлений, субъекты сталкиваются с сокращением платежеспособного спроса и, как следствие, сокращением выручки. Это влечет за собой уход с рынка игроков, что для финансового рынка, происходит, как правило, достаточно болезненно. В условиях усиления ухода игроков (особенно в ситуации некорректного ухода, когда остаются значительные неисполненные обязательства), регулятор усиливает меры надзора и контроля, что ведет к эффекту общего усиления регулятивной нагрузки. Усиление регулятивной нагрузки приводит к росту издержек субъектов финансового рынка, особенно в части роста постоянных издержек, что в условиях сокращения спроса является существенным негативным фактором, как для отдельных субъектов, так и для рынка в целом. В этой ситуации игроки стараются любыми способами в целях сокращения издержек уйти из под избыточного регулирования. В итоге мы получаем проявление регулятивного арбитража. В свою очередь, проявление регулятивного арбитража влечет за собой общую незащищенность потребителя, который начинает пересматривать приоритеты рисков и, как следствие методов защиты и управления ими. Что в еще большей мере приводит к сокращению (в данном случае применительно к страхованию) платежеспособного спроса и рынка в целом. И, как следствие, усиливает негативное влияние кризиса через избыточность регулятивного воздействия в условиях отсутствия экономической базы.
Рассматривая риски цифровой экономики в самом общем и широком смысле, мы можем выделить как минимум четыре ключевых объекта, воздействие на которых (и обеспечение безопасности которых) будет самым существенным образом влиять на дальнейшее развитие общества. Этими объектами являются:
-
- Человек. Ключевыми вопросами с т.з. обеспечения безопасности, требующего своего дальнейшего разрешения, здесь будут:
o Место человека в новом цифровом мире и в цифровой экономике (он в придельном варианте останется только потребителем или генератором какого-то узкого блага или наблюдателем, или кем-то еще);
o В чем состоит незаменимость человека в технологическом процессе в условиях цифровой экономики (что останется за человеком, когда машины научатся делать более эффективно большинство операций как технического, так и интеллектуального характера). На наш взгляд ответ лежит в области так называемых «тонких различий», т.е. ответов на вопросы, которые не могут быть в пределе разложены до бинарности (например, понятие добра и зла, или субъективные ощущения красоты и т.д.);
о Вопрос «идентичности» субъекта - мы в большей мере индивиды, члены корпораций, представители нации (государства), представители еще каких-либо агрегаций или мы просто люди мира (космополиты). Это один из самых сложных и глубоких вопросов в эпоху цифровизации.
-
- Технология. Ключевыми вопросами будут:
o Управляемость технологией. Какова вероятность выхода технологий вообще из под контроля человека, или в более простом вари- анте из под контроля определенных групп лиц, имеющих необходимые компетенции, в т.ч. каковы угрозы кибер-преступности, как будет расширяться поле контроля технологий;
о Самопродуцирование технологий - в каком момент мы столкнемся с эффектом массового создания технологий самими технологиями или их элементами (роботами, искусственным интеллектом и т.д.) и каковы будут последствия этого явления с т.з. безопасности.
-
- Информация. Поскольку цифровая экономика базируется в т.ч. на работе с большой массой и большим потоком информации, то тут возникают следующие вопросы:
o Достоверность информации. По мере увеличения интенсивности потока информации мы все более явно будем сталкиваться с противоречивостью и все более сложным будет фильтрация и рефлексия этой информации. При этом, все более технологизированные (без участия человека) системы принятия решения, могут выстраивать верификацию на недостаточно глубокой рефлексии, что может приводить к информационной фальсификации;
o Истина. По мере развития информационного потока и плюрализма мнений и источников информации, и, как следствие, в ряде случаев, вообще отсутствия возможности однозначного суждения и тем более доказательства, вообще встает вопрос об истине как таковой. В этих условиях мы можем столкнутся с частичной утратой функции когнитивной рефлексии, что породит экспоненциальный рост точек бифуркации в системе принятия решений в т.ч. по вопросу обеспечения безопасности.
-
- Экономика. Применительно к данному объекту ключевыми вопросами будут:
o Изменение издержек по мере развития технологий и цифровой экономики. То, к чему может привести это изменение как с социальной, так и с чисто экономической точки зрения однозначно оценить не представляется возможным. Это не только вопросы высвобождения трудовых ресурсов и их переориентация на другие направления с т.ч. социальной занятости, но и вопрос пересмотра механизма и инструментов реализации общественного договора с т.з. обеспечения общественной безопасности. Возможно, мы перейдем от налоговой (как приоритетной) к квази-налоговой или вообще иной системе перераспределения ресурсов на базе пересмотра социальных ценностей и функций;
o Безусловный базовый доход, который, как один из вариантов компенсаторного механизма при замещении людей техникой должен возникнуть. Но тогда встает вопрос о новых парадигмах рыночной экономики и ее социальной ориентированности.
В условиях значительной ресурсной ограниченности, порождаемой востребованностью капитала, кризисными явлениями и, как следствие, высокими альтернативными издержками, перед субъектами встает вопрос вариативности сценарного выбора. В этой связи у субъекта возникает лишь два ключевых пути:
-
- Сценарное замещение. Но оно влечет за собой не учтенные риски, работа с которыми может быть не только высоко затратна, но и компетентностно недоступна.
-
- Ресурсное замещение. Но в данном случае встает вопрос об источниках этих ресурсов (о каких бы ресурсах мы ни вели бы речь), и, как следствие опять-таки возросших альтернативных издержках у их владельцев в условиях возросшей общей неопределенности и ресурсного дефицита.
Таким образом, мы имеем дело с дисбалансом между институциональными новациями и экономическим базисом, который должен если уж не лежать в их основе, то хотя бы формироваться под воздействием институциональных изменений. Но, в случае, когда объективных предпосылок для роста базиса нет, мы все чаще сталкиваемся с экстрактивными институтами, выражающимися, как правило, в проявлении регулятивного арбитража и направленными на то, чтобы максимизировать доход посредством эксплуатации одной группой субъектов, другой. Модели межсубъектной эксплуатации были предложены нами в предыдущих публикациях. [2]
Одновременно с этим, мы наблюдаем тенденцию начала осознанной работы с рисками на местах - особенно в среднем бизнесе, где с одной стороны ограниченна маржинальность бизнеса, а с другой - накопились проблемы рентабельности и неучтенности рисков. Это предъявляет новые, более сложные требования к финансовому рынку и в экономическим взаимодействиям вообще. И далеко не все к этому готовы.
В этих условиях развитие технологии Блокчейн (и ее аналоги) является прорывным инструментом, который способен внести значительные изменения на рынке, и, прежде всего на финансовом рынке. Несмотря на то, что за- явление некоторых специалистов в области Блокчейн технологий утверждают, что с приходом Блокчейна финансовый рынок исчезнет как таковой, мы не придерживаемся данного мнения, но то, что данная и подобные технологии внесут существенную коррективу в работу на финансовом рынке – является фактом. При этом данная технология, скорее стала катализатором тех парадигмальных изменений, которые на финансовом рынке и так назрели.
С чем мы имеем дело, при обращении к таким технологиям, как Блокчейн? Прежде всего – это соотношение трех ключевых особенностей, обеспечивающих некоторую уникальность данной технологии не столько в технической, сколько в организационно-методической плоскости. Это:
-
- неизменяемость прошлых записей (как следствие, невозможность их фальсификации и корректировки задним числом),
-
- децентрализованность (что обеспечивает простоту и надежность хранения любых, в т.ч. очень крупных и важных массивов данных),
-
- криптографичность (что обеспечивает достаточно высокую надежность с т.з. защиты от несанкционированного доступа к данным, что позволяет свободно перемещать и хранить эти данные, без опасения их несанкционированного использования).
Все это формирует ключевой фактор востребованности Блокчейна – это возможность отслеживания ПОДЛЕННОСТИ происхождения и движения активов и (или) обязательств. При этом, вне зависимости от того, об активе или обязательстве идет речь, мы имеем дело с как бы параллельной реальностью учета, в которой фиксируется без возможности дальнейшего изменения все транзакции.
Blockchain – это уникальный и эффективный способ хранения истории:
-
- Нахождение (или происхождения или состояния) актива/пассива;
-
- Владение (принадлежности);
-
- Перемещение (изменения);
-
- В связи с этим, Blockchainможет быть использован прежде всего как инструмент:
-
- Уменьшения неопределенности;
-
- Защиты от потери данных;
-
- Снижения издержек трансакций.
Вместе с движением реального объекта (актива) в реальном мире происходит движение его цифрового сертификата (или токена) по блокчейну, что может быть отслежено любым
(каждым) участником и не может быть изменено, а, значит, фальсифицировано.
Данные технологические возможности Блокчейна придают ему следующее ключевое значение для экономики и общества:
-
- Blockchain – это «разрушение» формальных институтов неформальными (по сути, мы заменяем классические институты, такие как лицензия, контроль, договор и т.д. на новые технологизированные решения в области неформальных институтов);
-
- Blockchain – система верификации (проверки), которая может в этой функции заменить целый ряд традиционных институтов (базовая неизменность информации об объекте делает бессмысленным его проверку на стадии конечного потребителя/приобретателя);
-
- Blockchain – технологический институт, как замена классических (юридических) институтов (вместо договора – смарт-контракт, вместо резервирования капитала – резервирование токинов как обязательств и т.д.).
Применение Блокчейн технологии на финансовом рынке, особенно в области ритейла, может вернуть нас к востребованности взаимных финансов (обществ взаимного страхования, банков взаимного кредита), но на новом технологическом уровне. При этом взаимные финансы как таковые существовали и существуют в мире и представлены достаточно широко – начиная от банков взаимного кредита, что особенно характерно для Германии или Японии и было очень характерно для дореволюционной России и заканчивая Обществами взаимного страхования, которые в мире на сегодняшний день в достаточно большом количестве стран (включая Россию) имеют место быть. При этом, именно идея взаимных финансов, как «уничтожения» финансового посредничества коммерческих банков и других финансовых организаций лежа в концепции клип-товалют.
Однако, надо иметь ввиду, что Блок-чейн – это всего лишь технология, и несмотря на достаточную новатику, то, где и как она будет применена будет определять ее социальную направленность или порождаемый ей социальный антагонизм.
На сегодняшний день технология Блок-чейн используется не всегда во благо общества, и, как следствие, имеет свои «подводные камни», и используется для того, чтобы:
-
- «Спрятаться» (обезличиться при проведении операций, что наиболее ярко проявилось в криптовалютах);
-
- Получить дополнительную маржинальность за счет проявляемого «регулятивного арбитража» (наиболее ярким примером тут является любое ICO в сравнении в IPO);
-
- Получить спекулятивный доход, не являющийся базовой функцией инструмента (ярким примером является эффект с криптокотиками в Ethereum);
Кроме того, в настоящее время ряд решений на безе Блокчейн сталкивается со значительными технологическими ограничениями (длительность подтверждения транзакции, высоки энергетические затраты).
Blockchain в значительной мере повлияет в ближайшее время на такие сферы, как медицина, строительство, образование, фармацевтика, учет интеллектуальной собственности, госуправление, учет недвижимости, учет налоговых обязательств и т.д.
В этих условиях все более остро встают вопросы экономической безопасности в условиях цифровизации и развития новых информационных систем и экономических отношений на их базе. Необходима детальная разработка методов и инструментов экономической безопасности и четкое выстраивание приоритезации целей и ценностей, лежащих в основе экономической безопасности, выстаиваемой субъектом.
Обобщенно можно предложить следующие инструменты экономической безопасности в условиях цифровой экономики:
-
- Цифровая гигиена. Данное направление безопасности уже давно развивается на уровне отдельных корпораций, организаций и некоторых структур государственного управления. Особенно преуспело в этом направлении банковское сообщество и другие представители финансового рынка, а также торговые сети со значительным оборотом. Оно предполагает внедрение как систем защиты от внешних проникновений, так и распределенных прав доступа к информации, блокирования целого спектра ресурсов на рабочих станциях (например, работы в социальных сетях и т.д.). Но системным инструментом данное направление станет, когда каждый субъект будет для себя ставить четко вопрос о целях, каналах, методах и формах работы с потоками информации и их источниками. В нашу жизнь (как на уровне организаций, так и на уровне человека) должна войти
привычка осмотрительной работы с непроверенными источниками и каналами цифровой информации.
-
- Когнитивное целеполагание. Вторым базовым инструментом должно стать познавательное осознание того, зачем и куда мы развиваем цифровизацию и иные технологии «виртуальной реальности». Насколько динамично это развитие влияет на наши базовые установки и ценности, в какой момент будут возникать те точки бифуркации, которые могут привести к необратимости негативных последствий для социума. Выступает ли цифровизация функцией развития человека или она лишь выполняет задачу облегчения выполняемых им задач, подменяя ценности установками.
-
- Институциональные трансформации. По мере развития технологических решений, безусловно будут меняться и уже меняются институты. То, насколько формальные институты будут успевать за развитием неформальных институтов, а также то, насколько неформальные институты будут встраиваемы в формальные, будут обеспечивать, а не нарушать базовые принципы экономической безопасности, будет зависеть и дальнейшее общественное развитие.
Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики обретает повышенное значение и в связист м, что движение реальных активов сопровождается цифровыми носителями и каналами в их разных формах, и в связи с тем, что меняется сама суть производственных и в дальнейшем социальных и экономических отношений. В этих условиях будут появляться и проявляться в экономике различные злоупотребления, пресечением которых и должны заниматься специалисты в области экономической безопасности, которые на наш взгляд будут все более востребованы.
Список литературы Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики
- Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т./Рук. проекта М. Ю. Зурабов; Отв. ред. А. Л. Сафонов. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: НЦ ЭНАС, 2007
- Горулев Д.А. Анализ несостоятельности (банкротства) на базе модели межсубъектного взаимодействия//Финансы. -2011. -№11. -С.46-51.
- Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности https://studfiles.net/preview/4283625/(дата обращения 05.03.2018)