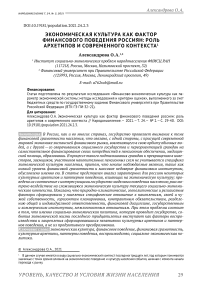Экономическая культура как фактор финансового поведения россиян: роль архетипов и современного контекста
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения
Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.
Бесплатный доступ
В России, как и во многих странах, государство проявляет внимание к теме финансовой грамотности населения, что связано, с одной стороны, с присущей современной мировой экономике экспансией финансового рынка, вовлекающего в свою орбиту обычных людей, а с другой - со сворачиванием социального государства и переориентацией граждан на самостоятельное финансирование своих потребностей в пенсионном обеспечении, медицинской помощи, образовании. В процессе такого подталкивания граждан к превращению в инвесторов, заемщиков, участников накопительных пенсионных схем не учитывается специфика экономической культуры населения, притом, что многие наблюдаемые явления, такие как низкий уровень финансовой грамотности и массовое недоверие финансовым институтам, обусловлено именно ею. В статье представлен анализ характерных для россиян некоторых культурных архетипов и паттернов поведения, влияющих на экономическую культуру; проведено их соотнесение с интересующими государство моделями поведения населения; рассмотрено воздействие на сложившуюся экономическую культуру текущего социально-экономического контекста. Показано, что природно-климатические, геополитические и религиозные факторы сформировали у населения специфическое отношение к накоплениям, своей и чужой собственности, горизонтам планирования, контрактным обязательствам, разделению общей и индивидуальной ответственности, финансовой дисциплине, государственным и коммерческим институтам, межличностным отношениям. При этом проблема состоит в том, что именно социально-экономическая политика, которую проводит государство, события экономической жизни последнего тридцатилетия выступают как факторы воспроизводства и закрепления сформировавшихся негативных культурных архетипов и паттернов поведения, а не их продуктивного преобразования.
Экономическая культура, финансовое поведение, финансовая грамотность, культурные архетипы, паттерны поведения, воспроизводство, социально-экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/143177746
IDR: 143177746 | DOI: 10.19181/population.2021.24.2.3
Текст научной статьи Экономическая культура как фактор финансового поведения россиян: роль архетипов и современного контекста
С некоторых пор во многих странах мира, включая Россию, наблюдается внимание структур государственного управления к теме финансовой грамотности населения — принимаются национальные стратегии по ее повышению2, на межгосударственном уровне анализируется опыт их реализации и издаются соответствующие рекомендации. Частично причины наблюдаемой активности лежат на поверхности: процесс финанси-ализации экономики [1] с присущей ему экспансией финансового рынка и появлением новых финансовых инструментов, наряду со стремительной цифровизацией, в том числе, финансовой сферы, все больше вовлекает в ее орбиту обычных граждан. И с точки зрения государства было бы разумно с помощью финансового просвещения сделать взаимодействие населения с финансовыми институтами более безопасным. Но есть и другие причины, в частности, некоторые зарубежные авторы видят в нынешнем акценте на финансовой грамотности неолиберальный ответ на продолжающийся мировой финансовый кризис. Неолиберальный характер ему придает установка на необходимость сокращения социальных расходов, что, по сути, означает, перенос бремени финансирования того, что раньше брало на себя государство, на плечи обычных граждан, притом, что перспектив расширения возможностей для занятости и роста заработной платы не просматривается. В этой ситуации повышение финансовой грамотности видится адептам соответствующей политики способом, позволяющим людям в индивидуальном порядке, не рассчитывая на общественные ресурсы, финансировать свои потребности в пенсионном обеспечении, медицинской помощи, образовании [2].
В России длительное снижение реаль- ных располагаемых доходов населения с одновременной существенной коммерциализацией социальной сферы и в целом заметным ростом стоимости жизни также вынуждают граждан задумываться о дополнительных источниках доходов и не использовавшихся ранее способах решения жизненно важных проблем. И, действуя в рамках неолиберальной парадигмы, государство разными способами подталкивает граждан к превращению в акторов финансового рынка — инвесторов, заемщиков, участников накопительных пенсионных схем и так далее [3]. При этом обнаруживается, во-первых, низкий уровень финансовой грамотности3, который осознается и самим населением4; во-вторых, массовое недоверие финансовым институтам [4].
Короткий опыт проживания в условиях рынка предполагает необходимость учета культурных факторов при объяснении и прогнозировании доминирующих моделей поведения населения в финансово-экономической сфере. Не случайно, как отмечает П. Димаджио, слово «культура» чаще используется применительно к менее экономически развитым странам, чем к сформировавшимся рыночным обществам [5]. И, кстати в докладе о совершенствовании национальных стратегий финансового просвещения России (совместная публикация G20 и ОЭСР) говорилось о проблемах, во многом детерминируемых именно культурой: низкий уровень финансовой дисциплины, короткий горизонт финансового планирования, низкий уровень доверия финансовым институтам, неверие в торжество правосудия и так далее 5.
Описание исследования и методология
В ходе выполнения исследования был проанализирован большой объем разнообразной информации: во-первых, данные проведенных в России и за рубежом исследований финансовой грамотности населения; во-вторых, связанные с финансовым просвещением документы стратегического характера, а также методики и рекомендации по его повышению, издаваемые международными организациями; в-третьих, научные труды, посвященные исследованию национального культурного архетипа [6], проявлению культурной традиции в деловой [7] и финансовой сферах [8]. В последнем случае отправными пунктами для анализа были следующие положения:
-
1. Механизм влияния культуры на поведение состоит в том, что она позволяет индивидам и общностям сформировать универсальные реакции на многообразие феноменологических проявлений реальности и выстроить унифицированные алгоритмы действий. При этом культурные нормы, сложившиеся на основе полученных знаний, формируют менее унифицированное поведение. Наибольшая же степень унификации формируется благодаря воздействию культурного архетипа: именно он, согласно М. Веберу, создает одни из самых стабильных границ экономического выбора. Как писал В. Ключевский, «факты, имевшие место в связи с конкретной исторической ситуацией, не умирают вместе с жившими в то время людьми, но «переходят по наследству, и в этом переходе даже перерождаются: из фактов, часто вызванных временною необходимостью, превращаются в привычки, в предание, действующее, даже когда минует эта временная необходимость.» [9]. При этом сложившиеся архетипы могут как способствовать, так и препятствовать экономическому развитию.
-
2. Влияние экономической культу-
- ры проявляется по двум направлениям: сформированные культурой установки, с одной стороны, определяют цель деятельности, а с другой — обозначают средства ее достижения. Тем самым культура ограничивает варианты выбора индивида, задает траекторию его социального действия, диапазон социальных отношений. Важным эффектом воздействия культуры является формирование поведения, повторяющегося и во времени (в разные периоды жизни одного и того же индивида), и в социальном пространстве (одни и те же модели поведения характерны для различных индивидов). При этом требуется актуализация индивидом культурных норм, в том числе осуществление внутреннего процесса их легитимации.
-
3. Применительно к экономической деятельности культурные традиции дифференцируют общественные системы по превалированию в них тех или иных установок и действий: по ориентации на интуитивные или рациональные основания принятия экономических решений; на тот или иной горизонт планирования; на формальный или неформальный характер договорных отношений; на индивидуалистические или коллективистские мотивы экономической деятельности.
С учетом этого, в рамках исследования представлялось важным выяснить, во-первых, какие архетипы и поведенческие паттерны, касающиеся экономической культуры, характерны для российского населения. Во-вторых, как они соотносятся с теми вопросами, которые интересуют инициаторов повышения финансовой грамотности и предполагают формирование у населения моделей поведения, связанных с: а) долгосрочным финансовым планированием, что обусловлено усилением акцента на частном (индивидуальном) пенсионном накоплении; б) со сферой заимствований, что обусловлено акцентом на привлечении гражданами кредита в качестве решения жизненно важных проблем (приобретения жилья, получения образования и других), а также на развитии потребительского креди- тования как средства поддержки производителей товаров и ритейла; в) с инвестированием, что обусловлено нацеленностью на развитие финансового рынка и, кроме того, декларируется как способ повышения благосостояния граждан; г) со сбережениями, что обусловлено желанием сформировать у граждан установку на создание «подушки безопасности» (все более значимой в условиях, когда государство постепенно освобождается от функции социальной защиты граждан), а также стремлением привлечь средства граждан на банковские депозиты. И, в-третьих, какое воздействие на имеющиеся архетипы и паттерны экономической культуры оказывает текущая ситуация — воспроизводит и закрепляет их или содействует трансформации в продуктивном направлении.
Степень разработанности проблемы
Подробный обзор подходов к пониманию экономической культуры и ее влияния на хозяйственные отношения дает П. Димаджио [5]. Представители «старой» институциональной школы осознают важность привычек, обычаев и традиций. Неоклассики же их игнорируют, притом, что, как замечал Н. Смелзер, идея рационального выбора по сути своей является идеей культуры, сколь бы не артикулированной она ни была. В лучшем случае неоклассики признают регулятивное значение культуры, но не конституирующее. Те авторы, кто исходит из взаимной обусловленности культуры и экономического поведения, склонны придерживаться конституирующей парадигмы (культура воздействует на то, как акторы определяют свои интересы). Те же исследователи, которые фокусируются на том, каким образом нормы и конвенции ограничивают преследование эгоистических интересов, придерживаются регулятивной парадигмы (Дж. Коулман). Некоторые авторы рассматривают культуру в иерархическом ключе — культурные формы, считающиеся само собой разумеющимися, образуют фундамент для более сознательно конструируемых форм (предпочтений, установок, мнений). Т. Парсонс и Э. Шилз выделяют когнитивный, экспрессивный и оценочный аспекты культуры. Иногда культура трактуется очень широко, например, как «передача от одного поколения другому знаний, ценностей и прочих факторов, влияющих на поведение» (Д. Норт); иногда узко, например, как некая социальная обусловленность, позволяющая индивидам функционировать в рамках фирмы (О. Уильямсон). По мнению П. Димаджио, экономические отношения всегда имеют некую нереду-цируемую «культурную» составляющую (рутинные практики, нормы, ценности, ритуалы и другое). Кроме того, культура играет значимую роль «в формировании доверия, столь важного для поддержания рыночных систем» [5].
Что касается трактовки экономической культуры российскими обществоведами, то Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина, обращавшиеся к этой теме в начальный период перехода к рынку, делали акцент на её роли (совокупности социальных ценностей и норм, регулирующих экономическое поведение) как социальной памяти, «способствующей или мешающей трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и ориентирующих ее субъектов на те или иные формы экономической активности» [10]. Говоря о дефиците соответствующей рыночным реалиям экономической культуры, Р. В. Рывкина подчеркивала, что под ним «логично понимать не только отсутствие в сознании людей каких-то остро необходимых знаний, умений, стереотипов поведения, но, одновременно, и наличие других знаний и опыта, которые остались от прошлого, и в изменившейся обстановке не только не работают, но и мешают выработке у личности новых, рыночных моделей поведения». При этом подчеркивалось, что «под экономической культурой логично понимать совокупность таких моделей экономического поведения, которые … совершаются людьми привычно, как бы автоматически» [11].
Другой обществовед Я. И. Кузьминов тогда же указывал на адаптационную природу культуры: «Экономическую культуру можно определить как совокупность институционализированных способов деятельности, которыми конкретные общества, группы и индивиды адаптируются к экономическим условиям своего существования. Она состоит из поведенческих стереотипов и экономических знаний (в их ценностном и инструментальном аспектах) » [12]. Ю. А. Левада, следуя традиции М. Вебера, ключевой характеристикой экономического действия считал рациональность, которую он рассматривал как социальный конструкт (а не природный, «естественный» феномен), возникающий в определенном культурном контексте, и определял культуру как систему значений, приобретающих смысл в процессе их использования [13]. В более поздних исследованиях отечественных авторов акцент делается на двуедином процессе сохранения и воспроизводства культурных ценностей [14]. Указывается на то, что «экономическая культура является долговременной, исторически сложившейся, передаваемой из поколения в поколение устойчивой системой социокультурных ценностей, представлений, установок, стандартов и образцов, неписаных законов поведения индивидов и групп …, связанной с реализацией потребности получения средств к существованию» [15]; подчеркивается «формирование прошлым экономическим опытом определенного состояния экономического сознания (и экономического мышления как формы его проявления) общества, социального слоя, социальной группы, воплощающих это состояние в определенной экономической деятельности (экономическом поведении) » [16].
Определяя экономическую культуру как «социальную память общества, представляющую собой совокупность ценностей и норм, являющихся регуляторами экономического поведения людей», О. Ю. Янбулатова указывает на выполняемые экономической культурой системные функции: 1) трансляции во времени, от поколения к поколению, ценностей, норм, предпочтений, мотивов экономического поведения; 2) селекции из унаследованных культурных кодов тех, что подходят для решения текущих задач в экономической сфере; 3) инновационного развития социальных ценностей и норм путем выработки новых эталонов и заимствования прогрессивных культурных норм из других культур. При этом подчеркивается характер формирования экономической культуры под воздействием трех групп факторов: экономических (условия экономической деятельности и уровень развития экономики); историко-культурных и образовательных (обучение, воспитание, воздействие СМИ) [17].
Результаты исследования
Проведенный анализ показал, что культурные архетипы и паттерны, формирующие экономическое поведение населения России, складывались под воздействием, прежде всего, природно-климатических, геополитических и религиозных факторов. Так, хозяйствование в зоне рискованного земледелия затрудняло основной массе населения наживать имущество: «даже при условии тяжкого, надрывного и спешного труда в весенне-летний период селянин чаще всего не мог иметь почти никаких гарантий хорошего урожая» [18]. В свое время В. О. Ключевский обращал внимание на то, что «природа страны много поработала и над этим строем, и над этим характером», в частности, содержавшая множество опасностей природа и соседство с воинственными кочевыми племенами развивали в народе наблюдательность и изворотливость, «приучали его выходить на прямую дорогу окольными путями» [19]. Преодоление порождаемых суровым климатом проблем требовало совместного хозяйствования, препятствовавшего личному накоплению, другим препятствием ему служили частые пожары.
Риски потери имущества были связаны и с геополитическими факторами.
А. П. Прохоров отмечает особенно разрушительный характер войн с кочевыми племенами: в отличие от войн с оседлыми народами, прекращающимися при резком падении численности необходимых для сельскохозяйственных работ мужчин, война с кочевыми племенами — практически перманентная, поскольку здесь потери компенсируются захватом чужого имущества. Именно в годы борьбы с таким врагом формировался мобилизационный характер государства, которое, в свою очередь, стало источником рисков: введение разорительных податей, порча монеты, бесконтрольный выпуск бумажных денег, расквартирование по всей стране армии и так далее. Помимо мобилизации средств на военные нужды, препятствием накоплению богатства «было лихоимство властей, поборы и прямые изъятия имущества представителями государства. Всякий хоть сколько-нибудь приподнявшийся над средним уровнем нищеты сразу становился объектом вымогательства и даже прямого грабежа» [7].
Что касается религиозного фактора, то, как пишет Н. Рулан, христианская мысль эволюционировала до признания внешним авторитетом государства, как силы, стремящейся к усовершенствованию мира, в результате социум стремился переложить на него свою ответственность [20]. Православие, по мнению ряда исследователей, дополнительно закрепляло в народе ожидание чуда, ориентацию на харизматического лидера, оно отчасти формировало отрицательное отношение к накопительству. Последнее связано с отмеченным Н. Бердяевым сосредоточением восточно-христианской культуры на эсхатологии: когда земная жизнь — лишь эпизод, возникает пренебрежение к земным благам. Способ привнесения на Русь православия синтезировал его с языческой мифологией и практикой на уровне бытовых привычек и понятий. Не случайно, по данным ряда исследователей, христианское население России так чтило Николая-Чудотворца, в котором, как предполагается, отразился языческий культ Ве- леса [21].
Естественно, что, во-первых, культурные архетипы и соответствующие им паттерны поведения исторически объяснимы, в том числе, природно-климатическими, геополитическими, религиозными и иными факторами. Во-вторых, в ходе истории сложились положительные и негативные архетипы (стереотипы), которые с долей условности можно назвать способствующими или препятствующими экономическому развитию. С долей условности т.к. один и тот же архетип может интерпретироваться, оцениваться для различных социально-экономических систем или периодов исторического развития не столь однозначно. Также остаётся открытым вопрос правомочности, обоснованности приписывания того или иного культурного архетипа конкретному народу, этносу. В ограниченных рамках статьи сосредоточимся на негативных культурных экономических архетипах и паттернах финансового поведения россиян. К ним обычно относят [7]:
-
• чувство экономической нестабильности, постоянной угрозы разорения;
-
• представление о том, что богатство — вещь преходящая, которую вряд ли удастся передать следующим поколениям, чему, кроме прочего, способствовал и основной механизм обогащения в виде перераспределения средств в периоды социально-экономической нестабильности;
-
• неуважение к чужой собственности: в условиях, когда многочисленные низы полагают, что богатства получены «неправедным» путем, а механизмы снижения неравенства отсутствуют, увеличивается риск того или иного «изъятия» (пожар, грабеж и другое);
-
• отсутствие культуры проживания в состоянии богатства у людей неаристократического происхождения (склонность «блажить, сорить деньгами»), в среде аристократии неподобающей считалась «мещанская бережливость»;
-
• привычка прибедняться у зажиточных людей, во-первых, из-за уравнительных установок окружающих; во-вторых,
боязни привлечь к себе «нездоровый» интерес власть имущих и криминалитета;
-
• демотивация упорного труда в силу неодобрения накопительства, представлений о преходящем характере богатства, а также перераспределения ресурсов независимо от трудового вклада (снисходительное отношение к нищенству; содержание за счет общины пьяниц и тунеядцев;
-
• склонность к неформальным отношениям в сфере денежного обращения, а также к утаиванию ресурсов и средств;
-
• надежда на «авось»: как писал В. О. Ключевский, «природа Великороссии часто смеялась над самыми осторожными расчетами русского человека, своенравие климата и почвы обманывали самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любил подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть нерасчетливое решение. Так в культурном архетипе русского человека появился «авось» — наклонность дразнить удачу и счастье» [19];
-
• преобладание интуитивизма над рационализмом, связанное с невозможностью что-либо планировать; преобладание наглядно-образного и наглядно-действенного, а не вербально-логического мышления;
-
• склонность к патернализму: отмечается одновременно и присущая населению склонность к анархии, отталкиванию от государства, и, в то же время, фетишизация государственной власти, что, в том числе, связано с тем, что «самодержавная власть, хотя и охраняла крепостное право, тем не менее, желала выглядеть силой, пекущейся о народе» [22];
-
• избегание индивидуальной ответственности: входящий в культурный архетип приоритет «общего» над «своим», стремление «быть как все» связаны не только с общественным принуждением, но и с неготовностью принять на себя ответственность в условиях индивидуальной свободы; перенесение ответственности на государство создает ощущение определенной безопасности, стабильности;
-
• коррумпированность системы власти и правосудия: так, по словам В. О. Ключевского, нет оснований «считать преувеличенными отзывы иностранцев… о том, что судьи открыто торговали своими приговорами, что не было преступления, которое не могло бы при помощи денег ускользнуть от наказания» [19];
-
• ориентация на сиюминутную выгоду, готовность к мошенничеству в деловых отношениях: «изощренность в нейтрализации системы и несоблюдении требований законодательства имеет неизбежным следствием невероятный размах обмана, надувательства во всех сферах» [7]. Такой, казалось бы, близорукий подход к деловой репутации обусловлен непостоянством системы управления, не позволяющим уловить долгосрочные ориентиры;
-
• низкий уровень межличностного доверия: в рамках контрактных отношений радиус доверия ограничивается уровнем семьи или неформальных деловых сетей со своими нормами и санкциями; при этом «взаимная обязательность внутри деловых сетей служит в первую очередь целям успешного обмана государства и контрагентов, находящихся за пределами данной деловой сети» [7].
Воспроизводство архетипов в современном социальноэкономическом контексте
Проведенный анализ говорит о том, что сформировавшийся под влиянием внешних фундаментальных факторов ряд культурных экономических архетипов и паттернов финансового поведения далёк от искомых идеалов. При этом текущий социально-экономический контекст выступает как фактор воспроизводства и закрепления сформировавшихся именно этих архетипов и паттернов, а не их продуктивного преобразования. В частности, это подтверждается следующими обстоятельствами.
-
1. Неоднократное обесценивание накоплений: катастрофическое обесценивание сбережений населения в январе 1992 г.;
-
2. Постоянное изменение «правил игры» по ходу «игры», например, в системе пенсионного обеспечения: замораживание обязательной накопительной части пенсии, бесконечное изменение правил расчета пенсии, внезапное повышение пенсионного возраста.
-
3. Нелегитимный, с точки зрения общества, характер присвоения узкой группой лиц наиболее ценных объектов бывшей государственной собственности при отказе государства от пересмотра итогов приватизации; в целом запутанность отношений собственности, непрозрачность реальных владельцев контрольных пакетов, оппортунизм инсайдеров, бесправие миноритарных акционеров.
-
4. Завышенные (в силу высокого уровня неравенства, агрессивной рекламы) потребительские стандарты, провоцирующие население, включая его бедные слои, на непосильное демонстративное потребление и, как следствие, попадание в кредитную кабалу.
-
5. Формирование силами государственной пропаганды в контексте решения социально-политических задач патерналистских ожиданий в отношении государства (особенно, Президента и глав администраций субъектов Российской Федерации).
-
6. Многочисленные случаи введения финансовыми организациями граждан в заблуждение (например, когда стоимость кредита оказывается гораздо выше, чем предполагал заемщик) или прямого нарушения своих договорных обязательств (например, когда банк скрывает от вкладчиков свою финансовую несостоятельность, или не ведет надлежащий учет депозитов, или не возвращает владельцу вклада его деньги под предлогом
«черный вторник» 1994 г.; дефолт 1998 г.; двукратная девальвация рубля в 2014 г.; заметное снижение курса рубля в феврале-марте 2020 года. Отсюда подтверждаемый, в том числе и нашими исследованиями, чрезвычайно короткий горизонт планирования как у индивидов/домохозяйств [23], так и у хозяйствующих субъектов [24].
сомнений в легитимности средств) при невозможности добиться справедливого решения в суде. И на этом фоне происходит декриминализация статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в части мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, притом, что подобная либерализация законодательства в интересах лиц, совершающих экономические преступления и мошенничество, дополнительно усугубляет и без того несимметричные отношения граждан и коммерческих структур.
Выводы
Финансово грамотное и ответственное поведение населения детерминируется рядом взаимодействующих факторов, среди которых, прежде всего, уровень доходов и доверие. Последнее, как и ряд других проявлений культурной экономической традиции (горизонт планирования, финансовая дисциплина и другие), имеет отношение к национальной идентичности (отсюда — введенное нобелевским лауреатом по экономике Дж. Акерлофом понятие экономики идентичности). Представляется, что в условиях отсутствия у значительной части россиян свободных финансовых средств, а также доверия к финансовым институтам, социально-экономический контекст последнего тридцатилетия закрепляет имеющиеся в культурной экономической традиции негативные стереотипы и установки. В таких условиях обучение населения финансовой грамотности может принести весьма ограниченную пользу6.
Список литературы Экономическая культура как фактор финансового поведения россиян: роль архетипов и современного контекста
- Оцич, Ч. Финансиализация и современные экономические кризисы // Ч. Оцич, Р. Буквич // КиберЛенинка: [сайт].—URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/finansializatsiya-i-sovremennye-ekonomicheskie-krizisy (дата обращения: 25.03.2021).
- Arthur, Ch. Financial Literacy Education, Neoliberalism, the Consumer and the Citizen / Ch. Arthur // ResearchGate: [сайт].—URL: https://www.researchgate.net/publication/271206480 (дата обращения: 15.02.2021).
- Александрова, О. А. Акцентуация на финансовой грамотности: забота о населении или элемент неолиберальной социальной политики? / О. А. Александрова // Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Москва, 3 декабря 2019 г.) / под науч. ред. А. В. Яра-шевой, О. А. Александровой, Н. В. Аликперовой ; технич. ред. К. В. Виноградова. — Москва : ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2020.— 298 с. ISBN 978-5-4465-2663-5.
- Моисеева, Д.В. Финансовая грамотность населения российского региона: экономико-социологический анализ. Дисс. ... канд. социол. наук: 22.00.03 / Моисеева Дарья Викторовна.— Волгоград: 2017.— 200 с.
- Di Maggio, P. Culture and Economy/ Р. DiMaggio// N. Smelser, R. Swedberg (eds.). The Handbook of Economic Sociology.—Princeton: Princeton University Press, 1994.— 752 р.
- Вьюнов, Ю.А. Русский культурный архетип / Ю. А. Вьюнов.—Москва : Флинта, 2017-480 с. ISBN 978-5-89349-709-0.
- Прохоров, А.П. Русская модель управления. 4-е изд. / А. П. Прохоров. — Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2017.— 496 с. ISBN 978-5-98062-097-4.
- Ключников, И.К. Кредитная культура: сущность, закономерности, формы / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Санкт-Петербург : 2011.— 221 с.
- Хромова, Е.Б. Из истории становления исторической антропологии в России: вклад истории ментальностей / Е. Б. Хромова // Историческая и социально-образовательная мысль.— 2018. — T. 10.— № 5/1. — С. 53-61. DOI: 10.17748/2075-9908-2018-10-5/1-53-61.
- Заславская, Т.И. Социология экономической жизни: очерки теории / Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина ; отв. ред. А. Г. Аганбегян. — Новосибирск : Наука, 1991. — С. 111-112.
- Рывкина, Р.В. Экономическая культура в России: трудности и этапы становления / Р. В. Рывкина// КиберЛенинка: [сайт].—URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/ekonomicheskaya-kultura-v-rossii-trudnosti-i-etapy-stanovleniya (дата обращения: 01.06.2019).
- Кузьминов, Я.И. Теоретическая экономическая культура в современной России / Я. И. Кузьминов // Экономика. Социология. Менеджмент: [сайт].—URL: http://ecsocman.hse.ru/ data/048/386/1217/002_Kuzminov.pdf (дата обращения: 01.06.2019).
- Левада, Ю.А. Время перемен: предмет и позиция исследователя / Ю. А. Левада. — Москва : Новое литературное обозрение, 2016.— 872 с.
- Авакян, А. А. Экономическая культура как регулятор экономического поведения / А. А. Авакян // Теория и практика общественного развития.— 2013.— № 1. — С. 59-61.
- Борисова, Л.Г. Неформальный сектор: экономическое поведение детей и взрослых / Л. Г. Борисова, Г. С. Солодова, О. П. Фадеева, И. И. Харченко.—Новосибирск : Новосибирский гос. унт, 2001-183 с.
- Соколова, Г.Н. Экономическая социология: Учеб. для вузов / Г. Н. Соколова. — Минск : Вышейшая школа, 1998.— 368 с.
- Янбулатова, О.Ю. Экономическая культура как фактор социально-экономического развития. Дис. ... канд. эк. наук: 08.00.01 / Янбулатова Ольга Юрьевна. — Кострома : 2000.— 101 с.
- Милов, Л. В. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства / Л. В. Милов // Общественные науки и современность.— 1995.— № 1.— С. 77-78.
- Ключевский, В. О. Курс русской истории / В. О. Ключевский.—URL: http://www.spsl.nsc.ru/ history/kluch/kluch17.htm (дата обращения: 10.03.2021).
- Рулан, Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Н. Рулан. — Москва : Издательство НОРМА, 2000.— 310 с.
- Успенский, Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей / Б. А. Успенский.— Москва: Изд-во Московского ун-та, 1982.— 248 с.
- Шулындин, Б. П. Российский менталитет в сценариях перемен / Б. П. Шулындин // Социс.— 1999.— № 12. — C. 50-53.
- Инвестиционно-сберегательные стратегии высокодоходных групп населения / под ред. О. А. Александровой, А. В. Ярашевой. — Москва : Экон-Информ, 2016.— 158 с. ISBN 978-59908112-3-2.
- Александрова, О. А. Проблемы долгосрочного планирования кадровых потребностей приоритетных отраслей экономики / О. А. Александрова // Экономическое возрождение России. — 2019.— № 1. — С. 53-57.