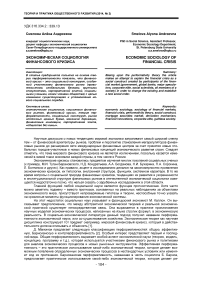Экономическая социология финансового кризиса
Автор: Смелова Ална Андреевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка на основе теории перформативности показать, что финансовый кризис - это социальный конструкт, созданный участниками финансового рынка (правительством, глобальными банками, крупными спекулянтами, корпоративной элитой, социальными учеными, всеми членами общества) с целью изменения существующего и установления нового социального порядка.
Экономическая социология, социология финансовых рынков, финансовый кризис, теория перформативности, социальный конструкт, рынок ипотечных ценных бумаг, механизм деривации, финансовые инновации, корпоративная элита, "общество без вины"
Короткий адрес: https://sciup.org/14936328
IDR: 14936328 | УДК: 316.334.2
Текст научной статьи Экономическая социология финансового кризиса
Научные дискуссии о новых тенденциях мировой экономики затрагивают самый широкий спектр тем – от финансовой архитектуры рынков, проблем и перспектив становления мегарегуляторов финансовых рынков до расширения сети международных финансовых центров за счет принятия новых глобальных городов-участников и новых финансовых концепций экономического развития стран. Следует отметить, что тема мирового финансового кризиса не является исключением, поскольку касается изменений в живой ткани экономики каждой страны, в том числе и России.
Экономические кризисы становились предметом изучения многих поколений социальных ученых (к примеру, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.А. Богданова, Н.И. Бухарина, П.А. Сорокина, Л. Болтански и других). Как правило, акцент в исследованиях делался на закономерностях проявления экономических кризисов, их типологии, внутренней структуре, функциях, системном характере. В то же время вопросы о социальной природе финансовых кризисов, тенденциях их развития и укорененности в институциональной структуре финансовых рынков в отечественной экономической социологии освещаются недостаточно полно, что нельзя сказать о зарубежных исследованиях в этой области.
Главной функцией любой социальной науки является функция прогностическая. Хотя часто можно заметить подмену – вместо прогнозов, основанных на реальных наблюдениях за объектами экономического мира, присутствуют непроверяемые гипотезы и теории, неспособные точно указать на кризисные моменты функционирования экономической системы.
На этот недостаток социальных наук указывает и французский экономист М. Каллон. Он высказывает предположение, что между абстрактной экономической теорией и реальной экономической практикой существует непосредственная связь. Она выражается в практике проникновения научных моделей экономических процессов, написанных на языке строгих формул, в экономическую реальность. В социально-экономической литературе данный подход получил название перформа-тивности экономической науки, или со-существования хозяйства. Экономическая теория как научная дисциплина конструирует тот предмет (например, мировой финансовый кризис), который в действительности должна описывать и объяснять [1].
Д. Маккинзи предлагает следующую классификацию перформативностей: общую, эффективную, Барнсианскую и контрперформативность [2]. Особый интерес представляют первый и последний виды. Общая перформативность выражает особой аспект экономической науки (теорию, модель, концепцию, программу и т.д.), которая используется участниками финансового рынка и политиками для анализа экономических процессов и новых рыночных инструментов. Эффективная перформа-тивность – это практическое использование какой-либо экономической теории, которое делает возможным появление определенных экономических процессов в нестандартных условиях или изменяет ход их протекания. Барнсианская перформативность, названная в честь социолога Б. Барнса, предполагает практическое использование какой-либо экономической теории, которая делает ре альные экономические процессы похожими на теоретическую модель, а контрперформативность демонстрирует обратное явление, когда рыночные процессы не отражают то, что написано в экономической теории, следуя собственной логике развития.
Существуют реальные примеры того, как финансовая теория встроена в структуру рынка. В частности, на развитие фондового рынка сильно повлияла идея рыночной эффективности и рост индексных фондов, а также такие теории финансового рынка, как гипотеза Модильяни-Миллера, модель оценки капитальных активов и теория опционов (модель Блэка-Шоулза-Мертона для определения справедливой цены опциона с учтенной премией за риск) [3]. Как утверждает Маккинзи, финансовые теории являются «двигателем», активной трансформирующей рыночную реальность силой, а не «камерой», которая пассивно записывает все, что происходит на рынке.
Однако, не только экономическая теория, но и правительственные программы, аналитические прогнозы агентств информации, концепции контроля крупных игроков и коалиций определяют практику конструирования новых рынков и мировых финансовых кризисов.
К примеру, Н. Флигстин и А. Голдштейн в статье «Анатомия кризиса секьюритизации ипотечных кредитов» (2011) отводят решающую роль государству в создании рынка ипотечных ценных бумаг США в 1960-е гг. и последующей эволюции его социальной и институциональной структуры.
Преследуя цель обеспечения граждан страны реальными инструментами для воплощения их мечты о покупке частного дома, государством были созданы спонсируемые правительством предприятия (Fannie Mae, Freddie Mac, Gennie Mae). Они должны были покупать кредитные бумаги и превращать их в ипотечные ценные бумаги. Затем были предприняты меры по привлечению на данный рынок игроков частного сектора, который признавался эффективным, надежным и прозрачным. Данная программа была призвана нивелировать острую проблему дефицита бюджета.
В середине 1980–1990 гг. произошел переход к парадигме саморегулирующегося рынка ипотечных ценных бумаг, ядром которого стали банки. Они изменили свою концепцию контроля, перейдя от практики обслуживания клиентов к обслуживанию банковских операций и захватили всю цепочку ипотечных сделок (продажу кредитов физическим лицам, эмиссию ипотечных ценных бумаг, их обслуживание и удержание части в качестве инвестиций). Помимо этого, на рынке сформировались концепции контроля других игроков (рейтинговых агентств, неплатежеспособных клиентов), которые оказались несовместимыми с концепциями банков, что в 2000-е гг. привело рынок к кризису [4].
В.А. Лепинай, французский экономсоциолог, в своей работе «Коды финансов» (2011) утверждает, что кризис следует трактовать как выбор между продуктивными и паразитарными механизмами деривации в вопросе создания стоимости (из труда, земли, капитала). Механизм дериваций противоположен идее (общей) перформативности, так как предполагает, что финансы превращают экономику в бесконечное число производных продуктов, а не создают изначально модель, в соответствии с которой будет выстроена экономическая система. Финансы, по сути, являются деривативом реальной экономики; они оторваны от материальных продуктов, которыми торгуют (пшеницей, шелком, нефтью и т.д.), и создают новые продукты (акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д.). Финансовые продукты – это контрактные документы, которые определяют объем и направление денежного потока между участниками сделки. Эти контракты, в отличие от материальных объектов, имеют инновационную природу, поэтому сложны для понимания и контроля.
Главными производителями инновационных финансовых продуктов являются мировые банки, они ориентированы на эксплуатацию изменчивости бизнес среды и множественности режимов калькуляции. Инновации позволяют им использовать преимущества существующей рыночной инфраструктуры и правил, уклоняясь при этом от внешнего регулирования [5].
Инновационные финансовые продукты представляют собой математические формулы, модели оценки рисков и доходности линейки деривативов. Финансовые инженеры способны создавать множество финансовых формул – различные комбинации вторичных ценных бумаг в рамках одного инвестиционного портфеля, рассчитав его доходность на языке математики, и предлагать их в качестве инновационных продуктов индивидуальным инвесторам (клиентам банка). Так, ценные бумаги публично торгуемых компаний, различные индексы и рейтинги становятся предметом банковских манипуляций. Создание все новых финансовых формул, несогласованных и конкурирующих между собой, разрушает организационную структуру механизма деривации. Другими словами, концепции контроля мировых банков, в отсутствии внутреннего регулирования, имеют тенденцию становиться неэффективными, что неминуемо приводит систему к кризису.
Взгляд М. Аболафии на финансовый кризис изложен в работе «Принятие рыночного кризиса: социальное конструирование спекулятивных пузырей» (1988), где он совместно с М. Килдаффом исследует социальную природу финансовых пузырей. Как правило, под термином «пузырь» в экономической науке понимаются существенные отклонения рыночной стоимости активов, которые не поддаются объяснению в соответствии с фундаментальными показателями. Здесь он имеет нескольку иную коннотацию. Спекулятивный пузырь рассматривается как «процесс, управляемый стратегическими действиями, атрибуциями и регулятивным вмешательством различных конфликтующих между собой коалиций» [6, p. 179].
Модель финансового кризиса Аболафии основывается на том допущении, что поведение участников финансового рынка является стратегическим, политическим и укорененным в институци- ональной структуре. Данный подход к анализу рынка предполагает исследование цикла действий и институциональных ограничений, которые формируют структуру рынка.
Аболафия переосмысливает концепцию финансового кризиса Ч. Киндлбергера, который указывал на иррациональный характер поведения участников финансового рынка во время кризиса. По мнению Киндлбергера, он начинается как спекулятивная мания, бум, ажиотаж, способствующий раздуванию «пузыря», затем следует шоковая ситуация, вызванная неким внешним событием, и, наконец, наступает паника, – на этой стадии участники рынка стремятся распродать свои активы, чтобы вернуть вложенные деньги.
Традиционные эмоциональные фазы кризиса (мания, шок и паника) трансформируются у Аболафия в фазы поведенческих реакций участников рынка, сопровождающие кризис: действие – атрибуция – регулирование. Так он описывает анатомию социального процесса организации стратегических действий участников рынка (спекулянтов, банкиров, СМИ, регулирующих институтов), вовлеченных в конфликт по поводу изменения институциональных границ рыночного взаимодействия. Аболафия полагает, что кризис не является следствием неорганизованного поведения атомизиро-ванной массы спекулянтов. Он является результатом борьбы конкурирующих между собой коалиций, каждая из которых стремится продвинуть свои узкие интересы. Разрешается кризис организованными действиями институциональных субъектов, которые стремятся сгладить очевидные негативные последствия для конкретных участников данного и смежных рынков. Аболафия иллюстрирует процесс образования финансовых пузырей на примере серебряного кризиса 1980 г.
История краха рынка серебра берет свое начало в XX в., когда многими государствами были отменены золотой и серебряный стандарты, что впоследствии привело к падению курса серебра на рынке (2 долл. за унцию) и, соответственно, к резкому уменьшению его промышленной добычи. В середине 1970-х гг. нефтяные миллиардеры братья Герберт и Нельсон Банкер Хант были первыми, кто, оценив потребность современной химической и электропромышленности в серебре, увидели реальные перспективы этого рынка. Решив стать монополистами, способными диктовать цену на сырье промышленным предприятиям, они начали скупать серебро по 2,9 долл. за унцию. За 10 лет они приобрели 150 млн унций, что соответствовало 50 % американских и 15 % мировых запасов серебра. Другие спекулянты также стали играть на повышении. Цена на серебро резко поднялась вверх, а братья Хант начали покупать также и опционы на серебро (35 долл. за унцию).
17 января 1980 г. цена достигла своего исторического максимума – 52,50 долл. за унцию серебра. 21 января советом Нью-Йоркской товарной биржи был введен запрет на покупку новых контрактов, что затормозило процесс совершения операций с серебром и отразилось отрицательным образом на его рыночной цене. Перед братьями Хант встала проблема выплаты наличных средств по существующим контрактам. 25 марта Нью-Йоркская инвестиционная палата «Бах Хэлси Стюарт Шилдз» предъявила требование на 135 млн долл., которые братья Хант не смогли удовлетворить. Для обеспечения выплат по долгосрочным контрактами им пришлось продать 8,5 млн унций серебра, нефть и газ на 400 млн долл. Однако, этих средств не хватило, чтобы покрыть долговые обязательства, и они были вынуждены обратиться к правительству США с просьбой о займе в 1 млрд долл. Просьба была удовлетворена. Правительство учло возможные негативные последствия для других участников рынка (в частности, крупнейших американских банков) в результате наводнения рынка оставшимися запасами серебра. Братья Хант так и не смогли выплатить все взятые на себя долговые обязательства и в 1988 г. объявили себя банкротами. Они получили обвинение в «Заговоре с целью манипуляций на рынке серебра» и были приговорены к тюремному заключению.
Таким образом, серебряный кризис 1980 г. Аболафия рассматривает как борьбу между тремя коалициями: инсайдерами, аутсайдерами и государственными регулирующими учреждениями. Эти коалиции боролись за создание и введение новых институциональных сред, пытались навязать свои собственные интерпретации текущей ситуации и контролировать поток нормативной деятельности. Несмотря на общепринятое убеждение, что появление кризиса находится в прямой зависимости от экзогенных шоков (таких как война, неурожай, технологические инновации), он является социальной конструкцией, созданной стратегическими действиями участников рынка. Другими словами, декларацию кризиса следует рассматривать как политическое действие, совершаемое в рамках конкурентной игры, с целью получения неограниченного права на осуществление регулятивных мер по изменению текущей экономической ситуации.
Похожей идее о роли коалиций в конструировании кризиса придерживается и М. Мизручи. В работе «Американская корпоративная элита и исторические корни финансового кризиса 2008» (2010) он выдвигает предположение, что современный экономический кризис связан с кризисом распада социальной группы – американской корпоративной элиты, оказывающей огромное влияние на экономику США на протяжении XX в. (с 1900 по 1980 г.). В результате проведенного исторического анализа он делает вывод, что серия кризисов с 1980 по 2008 г. была вызвана неспособностью бизнес-сообщества, превратившегося из сплоченной группы с космополитическими взглядами, в «фрагментированную», разрозненную и неэффективную группу, контролировать экономические процессы [7].
Первоначально американская корпоративная элита сформировалась из небольшой группы бизнес-лидеров, которые исторически придерживались консервативных взглядов: свободного рынка, минимального государственного вмешательства в экономику, поддержки низкого уровня налогов для бизнеса и физических лиц, противодействия профсоюзам. Однако, вопреки узким корпоративным интересам, они признавали, что определенные правила, например, Федеральной торговой комиссии и Комиссии по ценным бумагам и биржам, утверждающие принципы «честной игры» для всех, экономически эффективны. Также, несмотря на антагонистическую борьбу с профсоюзным движением, в 1950–1970-е гг. они выступали в поддержку программ социального обеспечения, первыми обратив внимание общества на такие проблемы, как бедность, безработица, неравный доступ к образованию, нарушение гражданских прав. Помимо частных инициатив, они привлекли к этой деятельности правительство США, выступив с лозунгом о необходимости партнерства между государством и корпоративным бизнесом.
До 1970-х гг. экономика США носила, преимущественно, производственный характер, где ведущими отраслями являлись авто- и сталелитейная промышленность. Доходы от этих отраслей начали падать еще в конце 60-х гг. и надежд на изменение ситуации не было, учитывая активную деятельность иностранных конкурентов, разразившийся энергетический (нефтяной) кризис в 1973 г. и последующую за ним инфляционную спираль. Корпорации стали искать альтернативный источник прибыли, которым стали финансы.
В период после Нового Курса Т. Рузвельта в сфере финансов доминировали коммерческие банки. Инвестиционные банки, игравшие весомую роль в начале XX в. после принятия закона Гласса-Стиголла в 1933 г., отошли на второй план. Если ранее коммерческая и инвестиционная деятельность могла осуществляться под одной крышей, то теперь в функции инвестиционных банков входило размещение ценных бумаг, а коммерческих – сбережение и кредитование.
В 1980-е гг. ситуация начала меняться. После глубокого падения фондового рынка в 1974 г. цены на акции оставались на низком уровне в течение нескольких лет – вплоть до 1982 г. В это время корпорации и частные инвесторы начали скупать, так называемые, «недооцененные» активы объединений, что породило волну слияний и поглощений. Этот процесс был поддержан инвестиционными банками, которые в результате вернули свои позиции в экономике. Коммерческие же банки стали предлагать такие услуги, как инвестиционный консалтинг и осуществление операций с ценными бумагами.
Так, финансовая деятельность становится важным источником корпоративного дохода. По оценкам Мизручи, в 1950–1960-е гг. доходы от финансового сектора составляли не более 15 % всех доходов американской экономики, а 1980 – 30 %, к 2001 г. – более 40 % [8]. Подъем финансовой активности в период Дж. Картера, а затем и Р. Рейгана сопровождался экономической политикой невмешательства. Это способствовало не только появлению волны слияний и поглощений, после ослабления антимонопольного законодательства, но и означало появление новых финансовых инструментов – деривативов в 1990-е гг. и ипотечных ценных бумаг в 2000-е гг., которые по большей части не подлежали внешнему регулированию и оценке надлежащего уровня риска. В 1999 г. произошла отмена ограничений, введенных законом Гласса-Стиголла, законом о финансовой модернизации Грэмма-Лича-Блайли, расширяющего возможности создания и деятельности финансовых конгломератов.
Финансы оказались для американской корпоративной элиты сферой, свободной от давления государства и профсоюзов. Рынок капитала стал новым источником богатства и корпоративного контроля. Однако новой системы отношений между корпоративной элитой и государством построено не было.
В 1980-е гг. появляется концепция управления компанией в интересах акционеров. Ядро корпораций составляют теперь не председатель правления и исполнительные директора, а институциональные акционеры, финансовые аналитики и менеджеры. Корпоративная элита начала становиться «фрагментированной», терять свою космополитичность и лидерский потенциал. Другими словами, она испытывала внутренний кризис – своей социальной структуры. Если ранее социальная архитектура финансовой сферы была представлена малой сплоченной группой коммерческих банков, то теперь это было профессиональное сообщество разрозненных финансовых игроков (инвесторов, финансовых аналитиков, менеджеров страховых фондов, арбитражеров, банкиров), преследующих краткосрочные интересы по извлечению прибыли в ущерб интересам всего общества и не претендующих на право стратегического управления экономикой страны. Как утверждает Мизручи: «Власть без эффективности», – становится девизом этого времени [9]. Кризис распада американской корпоративной элиты, ее неспособность и нежелание удерживать экономическую власть в своих руках стали главной причиной возникновения экономических кризисов 1980–2000-х гг. (крах фондового рынка в 1987 г., пузыря дот-комов в 1990-е гг., пузыря на рынке недвижимости в 2000-е гг.).
Однако, как утверждает М. Якобс, не стоит возлагать весь груз ответственности за кризис только на элиту общества. В работе «Финансовые кризисы как символы и ритуалы» (2012) он среди прочих обращается к теории социального антрополога В. Тернера для объяснения социальной природы кризиса. Кризис подобен ритуальному процессу, которому присуще свойство лиминальности – некое переходное состояние между стадиями развития сообщества или «коммунитас», как его называет Тернер, делая акцент на глубинном чувстве сопереживания общности. Ритуал связан с обрядом перехода из одного состояния в другое (также места, социального статуса или положения). Он включает в себя три фазы: разделение, грань и восстановление. Первая фаза означает открепление субъекта или объекта от места, занимаемого в социальной структуре, его освобождение от культурных рамок. Во время прохождения второй фазы – «лиминальной» – он получает черты двойственности, некой альтернативной структуры. В третью – восстановительную – завершает свой обряд перехода, вновь обретая стабильное состояние, а вместе с ним права и обязанности. Происходит закрепление и струк- туры, ее нормативных ценностей и стандартов, в другом случае структура может видоизменяться. Так, кризис, выступая как ритуал, проводит социальную группу или общество в целом через лиминаль-ность, утверждая старый порядок в социальной структуре или изменяя его [10; 11].
Современный глобальный финансовый кризис, по мнению Якобса, знаменует существование, так называемого, «общества без вины» (no-fault society) [12]. Участники финансового рынка (ипотечные брокеры, инвестиционные банкиры, рейтинговые агентства, государственные и частные регулирующие органы), апеллируя к максимальному разделению профессионального труда и, как следствие, фрагментированной рациональности на рынке не признают за собой ответственности за возникший кризис. Однако логика финансового кризиса укоренена в культуре, ее ритуалах и символах. Задача общества состоит в том, чтобы отказаться от идеи «общества без вины» и производить новую эффективную культурную систему как адекватный ответ на разразившейся финансовый кризис. Дух солидарности, в том числе в его церемониальной, символической форме способствует плавному и эффективному изменению общества, его переходу к новому этапу развития.
Таким образом, финансовый кризис, по сути, – это социальный конструкт, он является производным инструментом деятельности социальных ученых (Маккинзи), государства (Флигстин, Голдштейн) и влиятельных участников финансового рынка – глобальных банков (Лепинай), крупных биржевых спекулянтов (Аболафия, Килдафф), корпоративной элиты (Мизручи), а также общества в целом, состоящего из атомистических субъектов, преследующих свои эгоистические интересы и не желающих брать на себя ответственность за дестабилизацию социетальной системы (Якобс). Кризис позволяет им выводить финансовую систему из состояния равновесия и восстанавливать ее с целью создания новой конфигурации рыночных сил и установления нового социального порядка. Другими словами, он не является имманентным свойством экономической системы, а возникает в результате стратегических действий организованных участников рынка.
Ссылки:
-
1. Callon M. The Laws of the Market. Wiley-Blackwell, 1998.
-
2. MacKenzie D. An Engine, not a Camera. How Financial Models Shape Markets. 2008.
-
3. Смелова А.А. Определение рынка в экономической науке и социологии // Экономическая социология: теория и история / под ред. Ю.В. Веселова, А.Л. Кашина. СПб., 2012.
-
4. Fligstein N., Goldstein A. The Anatomy of the Mortgage Securitization Crisis // Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis / ed. by M. Lounsbury, P.M. Hirsch. Emerald Group Pub. Lmd., 2011. P. 29–70.
-
5. Lepinay V.A. Codes of Finance: Engineering Derivatives in a Global Bank. Princeton Univ. Press, 2011.
-
6. Abolafia M.Y., Kilduff M. Enacting Market Crisis: The Social Construction of a Speculative Bubble // Administrative Science
Quarterly. 1988. Vol. 33. №. 2. P. 177–193.
-
7. Mizruchi M.S. The American Corporate Elite and the Historical Roots of the Financial Crisis 2008 // Markets on Trail: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis: Part B Research in the Sociology of Organizations. 2010. Vol. 30 B. P. 103–139.
-
8. Ibid.
-
9. Ibid. P. 133.
-
10. Turner V.W. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Cornell University Press, 1967.
-
11. Turner V.W. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Har-mondsworth, 1974.
-
12. Jacobs M.D. Financial Crises as Symbols and Rituals // The Oxford Handbook of the Sociology of Finance / ed. by K. Knorr-Cetina, A. Preda. Oxford Univ. Press, 2012. P. 376–392.