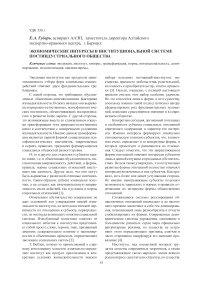Экономические интересы в институциональной системе постиндустриального общества
Автор: Губарь Е.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются институты как продукты эволюционного преломления общецивилизационных принципов воспроизводства социума в конкретных исторических условиях. Анализируется процесс трансформации субъектных интересов в социальных системах производных уровней. Выявляются исходные моменты доминирования и авторитизации демократических систем управления.
Эволюция, институт, интерес, трансформация, норма, интенциональность, доминирование, монополизация, квазиинтересы
Короткий адрес: https://sciup.org/142179243
IDR: 142179243
Текст научной статьи Экономические интересы в институциональной системе постиндустриального общества
Эволюция институтов как продуктов цивилизационного отбора форм социальных взаимодействий отвечает двум фундаментальным требованиям.
С одной стороны, это требования, обусловленные объективно-изменяющимися факторами жизнедеятельности. В своих началах они выражены в природно-естественных, психофизиологических инстинктах, обеспечивающих воспроизводство и развитие homo sapiens. С другой стороны, это возникающие вместе со становлением социума трансформации этих природно-естественных начал в соответствии с конкретными условиями жизнедеятельности. Именно данные трансформации являются первой формой социализации психофизиологических инстинктов, закрепляемых в нормах, правилах, традициях формирующихся социальных общностей разного уровня.
И, то и другое для отдельного субъекта задано извне, т.е. и объективная обусловленность, инстинктивная направленность действий, и формы, правила, нормы социальных отношений выступают как данность. Другое дело, что они могут быть выражены с различной степенью интенсивности. Таким образом, субъект изначально получает, а не создает, как интенциональную направленность своих действий, так и условия, и нормы социальных отношений [1].
Отмеченное обстоятельство совершенно не дает оснований для утверждения некоей изна-чальности институтов, их методологической первичности по отношению к субъекту, первородно-сти, из ниоткуда возникшего понятия социальной системы. Излюбленный холистами «скачок» из социального небытия к институтам представляет собой просто слово, термин, знак, призванный заменить содержательное понятие о закономерностях и объективных процессах, определяющих эволюцию социальных систем [2].
Т. Веблен, почему-то причисляемый к славному конгломерату холистов, изначально определяет институт как продукт преломления в конкретных условиях жизнедеятельности некоего набора исходных мотиваций-институтов: мастерства, праздного любопытства, родительский, склонность к приобретательству, эгоизм, привычки [3]. Нельзя, очевидно, с позиций настоящего времени считать этот набор особенно удачным. Но это относится лишь к форме, а не к существу, поскольку именно такой подход позволил автору сформулировать ряд фундаментальных положений, имеющих существенное значение и в современном обществе.
Конкретная ситуация, жизненный потенциал и особенности субъекта социальных отношений определяют содержание и характер его интересов. Именно интересы формируют изначально отношенческую позицию субъектов, что, в конечном счете, определяет и те конкретные формы, в которых происходят и развиваются их отношения. Следует отметить, что эти закрепляющиеся формы отношений отвечают интересам субъектов лишь в данной ситуации и при данных обстоятельствах. Нельзя также утверждать, что получающие развитые формы отношений полностью отвечают интересам включенных в них субъектов. Как правило, есть более или менее уступающая сторона. Но именно выигрывающие субъекты получают возможность закреплять в нормах и правилах отвечающие их интересам формы общественных отношений.
Сложившиеся системы регулирования общественных отношений изначально и до настоящего времени заключают в себе ген доминирования, позволяющий лишь разнообразить и отчасти стабилизировать их формы. Современные демократические системы управления, сменившие в большинстве развитых стран мира официально авторитарные режимы, по существу не устраняют этого определяющего признака, смягчая и часто откровенно камуфлируя его внешнее проявление [4].
Институты, над косметикой которых трудятся легионы современных теоретиков, а также представляющие «волю народов» члены всякого рода конгресс-депутатских структур, по существу представляют собой преломленные через взаимодействие многообразных интересов интенции мирового эволюционного социального процесса. Результаты этого преломления зависят от множества обстоятельств, вдаваться в которые нет особой нужды и стимулов ни у упомянутых теоретиков, ни, тем более, у озабоченных «справедливым распределением» властных структур [5].
Объективная взаимосвязь, взаимозависимость индивидов порождает необходимость регулирования конкурентных, противоречивых индивидуальных интересов. Таким образом, возникает некий надынтерес, или интерес связи индивидов. Незамедлительно появляются и субъекты, органы, персонифицирующие эти надынтересы, а именно интересы коллективов, объединений, ассоциаций, обществ в целом. В каком бы виде ни появились эти новые носители интересов – демократических организаций или авторитарных управителей, общественных образований или государственных структур, – они персонифицируют такую форму интересов, которая появляется из взаимодействия частных лиц, из процессов, не подчиненных этим лицам, а потому и как бы стоящих над ними.
По самой своей сути интересы связи выступают, во-первых, как общие или всеобщие, во-вторых, как интересы более высокого управляющего порядка.
«Общий интерес, – отмечал К. Маркс, – существует не только в представлении как «всеобщее», но прежде всего он существует в реальной действительности в качестве взаимной зависимости индивидов». И далее: «… именно благодаря этому противоречию между частным и общим интересом последний, в виде государства, принимает самостоятельную форму, оторванную от действительных – как отдельных, так и совместных интересов, и вместе с тем, форму иллюзорной общности» [6].
Так писал К. Маркс-ученый. К. Маркс-революционер двумя страницами ниже выдвигает еще более иллюзорную форму объединения интересов, при которой «всесторонняя зависимость… превращается благодаря коммунистической революции в контроль и сознательное господство над силами, которые будут порождать воздействие людей друг на друга и которые до сих пор казались им совершенно чуждыми силами и в качестве таковых господствовали над ними» [7].
Как, с помощью каких механизмов будут осуществляться эти «господство и контроль над чуждыми силами», что послужит гарантией против возвышения органов и лиц, персонифицирующих ассоциированные интересы, – на эти вопросы ни К. Маркс, ни В.И. Ленин ответов не дают.
В теории интересов в отечественной социальной литературе закрепились считающиеся неоспоримо марксистскими положения, которые скорее следует отнести уже к чисто большевистским понятиям «справедливого» социального устройства. Эти положения заключают в себе два главных момента. Первый состоит в принципиальном единстве интересов всех членов общества, основанного на государственной форме собственности. Второй определяет примат общего интереса над частным. Эти два положения дополняются существенным условием, суть которого состоит в том, что интересы частного, подчиненного уровня реализуют себя посредством выражения в интересах более высокого, общего уровня. Так, интересы личности реализуются посредством интереса коллектива, интерес коллектива – через интерес общества.
При этом фальшивый приоритет «общего блага» над благом частным, т.е. интересом личности, остается до сих пор задубелой догмой и прикрытием самых непрофессиональных действий, а то и злоупотреблений.
Между тем еще А. Смит прозорливо указывал, что каждый человек, добиваясь собственной выгоды, в то же время «…незримой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения… Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем когда сознательно стремится делать это» [8].
Для того чтобы уяснить механизм взаимосвязи интересов и, прежде всего, экономических интересов, в обществе необходимо выявить существо и характер интересов различного уровня. Экономическая деятельность объективно сопровождается созданием всякого рода органов и объединений, призванных представлять интересы ассоциированных в них субъектов. Будут ли это просто объединенные индивидуальные интересы или образуются какие-то новые их виды? Очевидно, что появятся какие-то качественно новые положения индивидов при их вольной или невольной ассоциации, так что возникают и новые виды интересов. Их можно назвать эмер-джентными интересами, или, как ранее уже упоминалось, интересами связи. Это интересы, как бы синтезированные взаимосвязью отдельных индивидов. В этом смысле они носят производный характер. Они образуют, во-первых, специфическое преломление в данной связи представленных в них индивидуальных интересов;
во-вторых, они существуют именно как интересы данной конкретной связи, носителем которой является специальная функциональная структура, объединение субъектов. Вне этой связи, вне этого объединенного субъекта они не существуют. Так, индивидуальный интерес акционера не просто представлен, но и преломлен в интересах акционерного общества, и вне этого общества такого преломления нет.
Можно выделить три основных вида интересов:
-
1) частные или индивидуальные;
-
2) интересы функциональных объединений, ассоциаций;
-
3) общегосударственные интересы.
Последний вид интересов соотносится с так называемыми общественными интересами, которые в той или иной мере могут выражаться в государственном интересе и за большую полноту выражения которого борются различные политические группировки. На деле не может существовать интересов, не персонифицированных, абстрагированных, не имеющих своих конкретных субъектов. Поэтому, практически, общественный интерес – это не некое усреднение, а скорее совокупность интересов всех цивилизованных субъектов общественных отношений.
Итак, имеются три основных субъекта интереса и, в соответствии с этим, три основных вида интереса. Для выяснения взаимодействия этих интересов необходимо знать природу и определяющие функции их носителей.
Поскольку личность, индивидуум составляет основу всякого общественного устройства, и не только основу, но и конечный смысл и содержание любого общества, то естественно, что именно интересы личности, индивидуума и определяют все взаимосвязи и отношения в обществе.
Любого рода объединения, ассоциации, организации в обществе по самой своей сути, прежде всего, образуются для реализации интересов, вошедших в них индивидов. Но это не значит, что они могут быть непосредственно подчинены интересам каждого отдельно вошедшего в них индивида.
Во-первых, индивидуальные интересы конкурентны и противоречивы, так что их взаимодействие требует специального согласования и регулирования.
Во-вторых, взаимодействие частных интересов образует особые эмерджентные интересы. Так, объединение врачей может потребовать налаживания особой системы подготовки кадров, взаимостраховки, решения вопросов организа- ции труда, специальных технологий и т.д. В этом дополнительном эмерджентном эффекте и состоит смысл любого рода функциональных экономических объединений, поскольку каждый индивидуум свободен решать вопрос о своем участии в ассоциации.
Такого же рода эффект могут приносить и общегосударственные объединения и учреждения. И в том, и в другом случае регулирование взаимодействия индивидуальных интересов со стороны объединения, ассоциации ограничивается пределами достигаемого эмерджентного эффекта.
Важнейшими характеристиками объединенных, ассоциированных интересов является то, что они, во-первых, делегированы, производны и функционально зависимы от частных интересов; во-вторых, гарантированы, т.е. ограничены, непо-глащаемы индивидуальным интересом.
Особую группу составляют общегосударственные интересы. В них находят выражение те процессы, которые носят, как правило, общенациональный всеохватывающий характер. Кроме того, как правило, общегосударственный интерес охватывает те сферы, которые не могут эффективно функционировать на уровне частной или ассоциированной экономической деятельности [9].
Государственный интерес по своей сути характеризуется двумя важнейшими свойствами.
Во-первых, это интерес всех образующих его субъектов, конечно, в том виде, в каком он конституирован в данном обществе. Во-вторых, это защитный, гарантирующий интерес.
Реальный интерес государства – гарантировать условия для нормальной, цивилизованной деятельности общества. Сама же конструктивная, созидательная деятельность обеспечивается насущными интересам и граждан, и созданными ими предприятиями и объединениями.
Поскольку жизненные блага, являющиеся результатом взаимодействия субъектов индивидуальных интересов, сами по себе выступают побудительными стимулами, то совершенно нет необходимости и никаких оснований навязывать кому бы то ни было это взаимодействие, т.е. вхождение субъектов в то или иное объединение, ассоциацию. И регулирование отношений в таких объединениях может осуществляться в пределах указанных стимулов, но ни в коем случае нет смысла подчинять и подавлять индивидуальные интересы субъектов в пользу интересов объединения. Поведение субъектов индивидуальных интересов в данном случае определяется и стимулом эмерджентного эффекта, и взаимными, принятыми добровольно и закрепленными в договоре обязательствами.
Поскольку реализация государственных интересов закрепляется за определенными организациями, представляющими интересы победивших политических течений, и эта функция включает в себя регулирование и подчинение взаимодействия частных интересов, то, отсюда, делаются не только теоретические выводы, но и важные практические шаги, направленные на нераздельное, полное, а стало быть, и узурпированное представление так называемых «общественных интересов». Происходит своеобразная монополизация представительства этих самых «общественных интересов», являющихся неким среднеарифметическим выра-жениием взаимопереплетающихся, конкурентных, противоречивых интересов всех субъектов общественной системы. При этом расчет и взвешивание средней ведется по методике, отвечающей чаяниям, а то и иллюзиям лиц и групп, представленных во властных структурах [10].
В действительности общественный интерес, на понимание и представительство которого претендуют многочисленные конкурирующие политические группы и лица, есть лишь более или менее удачное сочетание разноречивых и многообразных интересов всех субъектов общественных отношений.
Общественный интерес как целостность может существовать в виде защитно-страховой, цивилизационной основы, исходя из которой разворачивается конструктивное, конкурентное взаимодействие частных интересов, которые порождают различного рода ситуационные, функциональные взаимосвязи и объединения, ни в коем случае не привязывающие в своей окостенелости субъектов индивидуальных интересов, а лишь определяющие формы их связей.
Схема приоритетов: общество – коллектив – личность, очень не безобидна [11]. Во-первых, она позволяет закреплять в управленческих структурах не только титулы общественных интересов, но и монополию на них, и, таким образом, уже изначально делает систему неуязвимой для демократического контроля.
Во-вторых, в процессе необходимой конкретизации общественных интересов появляется возможность их деформации. И она происходит в угоду определенных групп и лиц.
В-третьих, она унифицирует и стандартизирует отношения, низводит и выхолащивает их творческую, жизненную суть.
В-четвертых, навязывает быстро формализующиеся, а потому и общественно регрессивные или фиктивные критерии деятельности, являющиеся таковыми уже в силу своей стандартизо-ванности, упрощения, а затем и злоупотреблений тех лиц и слоев, которые эти критерии устанавливают.
В-пятых, формализуясь и субъективируясь, эта схема низводит общественные связи до простого соподчинения, а, в конечном счете, и производства.
В-шестых, ограниченность и подавленность индивидуальных интересов обездвиживает общественную систему и порождает застой.
В-седьмых, система уже не может справиться со своим собственным произволом. Низкая эффективность благих устремлений, самосознание наполненностью фальшивыми успехами и тотальной лживостью вызывают к жизни стремление к самоочищению, но на основе все тех же, незыблемых принципов. Отсюда неизбежны «чистки», усиление и обострение борьбы, крутые повороты, постоянно приправляемые новыми дозами злоупотреблений и произвола, заканчивающиеся иллюзорными успехами и последующими признаниями ошибок.
Наличие эмерджентных интересов не является основанием для притязаний на их монопольное представительство, под каким бы благим видом этого ни делалось. Такое представительство может быть лишь ограниченно-конкурентнофункциональным. Но и в этом случае должны предусматриваться специальные механизмы подконтрольности представительства, поскольку оно порождает не только возможность реализовать интерес связи, но и присвоить, узурпировать его. Кроме того, появляются специфические интересы представительства в системе управления, т.е. особые формы квазиинтересов, суть которых состоит не в решении проблем, для которых эта система образована, а в наиболее полном соответствии требованиям этой корпускулирующейся и узурпирующейся системы. Появление множества квазиинтересов и квазистимулов деформирует представленные реальные интересы на каждом уровне управленческой иерархии. Таким образом, не только производится, но и возвышается, подавляет общественное развитие тоталитарная фальшь, за пышно звучащими лозунгами которой скрывается мелкий, частный деформированный интерес чиновника [12].
Интересы – «чудотворные ферменты» – оказывают свое, поистине животворное воздействие лишь в случае их всеобщей, универсальной осво-божденности – на основе признанных всеми общецивилизованных ограничений. При этом проблема, естественно, усложняется в связи с принципиально неустранимыми циклическими колебаниями экономической конъюнктуры, которые обусловливают то расширение сферы го- сударственного воздействия, в условиях спада и начала выхода из кризиса, то – сужение до минимума, на стадии уверенного экономического роста.
Список литературы Экономические интересы в институциональной системе постиндустриального общества
- Хайек, Ф. Право, законодательство и свобода/Ф. Хайек. -М.: ИРИСЭМ, 2006. -644 с.
- Институциональная экономика: учебное пособие/под рук. акад. Д.С. Львова. -М.: Инфра-М, 2001. -318 с.
- Веблен, Т. Теория праздного класса/Т. Веблен. -М.: Прогресс, 1984.
- Губарь, А.И. Неформальные трансакции в системе управления дифференцированно-постиндустриального общества/А.И. Губарь//Известия Алтайского государственного университета. -2010. -№1-2. -С. 227-232.
- Губарь, А.И. Неформальные трансакции в системе управления дифференцированно-постиндустриального общества/А.И. Губарь//Известия Алтайского государственного университета. -2010. -№1-2. -С. 229-231.
- Маркс, К. Немецкая идеология/К. Маркс, Ф. Энгельс//Избр. соч. -1981. -Т. 2. -С. 30.
- Маркс, К. Немецкая идеология/К. Маркс, Ф. Энгельс//Избр. соч. -1981. -Т. 2. -С. 35.
- Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1//Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. -М.: Эконов-Ключ, 1993. -С. 91.
- Норт, Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества/Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст. -М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2011.
- Губарь, А.И. Институциональный монополизм: истоки трансформации/А.И. Губарь//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2012. -Вып. 3 (26). -С. 7-11.
- Губарь, А.И. Институты и механизмы экономического развития: монография/А.И. Губарь. -Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. -204 с.
- Губарь, А.И. Проблемы институциализации экономических интересов в современном обществе/А.И. Губарь, Е.А. Губарь//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2015. -Вып. 3 (41). -С. 17-22.