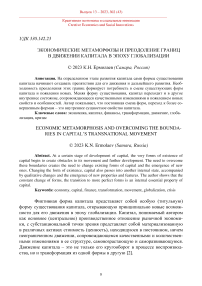Экономические метаморфозы и преодоление границ в движении капитала в эпоху глобализации
Автор: Ермолаев К.Н.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (43) т.13, 2023 года.
Бесплатный доступ
На определенном этапе развития капитала сами формы существования капитала начинают создавать препятствия для его движения и дальнейшего развития. Необходимость преодоления этих границ формирует потребность в смене существующих форм капитала и появлении новых. Меняя форму существования, капитал переходит и в другое внутреннее состояние, сопровождающееся качественными изменениями и появлением новых свойств и особенностей. Автор показывает, что постоянная смена форм, переход к более совершенным формам - это внутреннее сущностное свойство капитала.
Экономика, капитал, финансы, трансформация, движение, глобализация, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/142240395
IDR: 142240395 | УДК: 330.142.23
Текст научной статьи Экономические метаморфозы и преодоление границ в движении капитала в эпоху глобализации
Фиктивная форма капитала представляет собой особую (титульную) форму существования капитала, открывающую принципиально новые возможности для его движения в эпоху глобализации. Капитал, понимаемый автором как основное (центральное) производственное отношение рыночной экономики, с субстанциональной точки зрения представляет собой материализованную в различных активах стоимость (ценность), находящуюся в постоянном, ничем неограниченном движении, сопровождающемся качественными и количественными изменениями в ее структуре, самовозрастающую и саморазвивающуюся. Движение капитала – это не только его кругооборот в процессе воспроизводства, но и трансформация из одной формы в другую [2].
Движение капитала сопровождается постоянной сменой форм его существования и материализации. Каждая вещественная форма материализации капитала обладает рядом ограничений, органически-имманентно присущих ей как материальному объекту. Автор статьи убежден, что постоянная смена форм, переход к более совершенным формам – это внутреннее сущностное свойство капитала.
Саморазвитие капитала обусловило эволюцию представлений о нем самом и о стоимости как его субстанциональной основе. Представители классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль) и занимающий, согласно современным представлениям, промежуточное положение между классикой, неоклассикой и институционализмом К. Маркс увязывали природу стоимости с прошлыми затратами труда (издержками производства) [3:62-80]. Маржинали-сты (У.С. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) в основу определения стоимости положили текущую предельную полезность (ценность) товара для потребителя. Неоклассический подход А. Маршалла позволил увидеть диалектически-непротиворечивую органическую связь классического (со стороны производства) и маржиналистского (со стороны потребления) походов к природе стоимости на основе концепции равновесной цены.
Кейнсианская и неокейнсианская концепции стоимости позволили рассмотреть последнюю как будущую ожидаемую ценность (Дж.М. Кейнс, Дж. Хикс). Авторы теорий рациональных ожиданий (Дж. Мут, Р. Лукас) и теоретико-игрового подхода (Дж. фон Нейман, Дж. Нэш) утвердили окончательное понимание стоимости как ожидаемой вероятностной полезности (ценности) [3, с.109-111].
Автор статьи выражает твердую убежденность в том, что понимание стоимости как ожидаемой вероятностной ценности является наиболее глубоким представлением о ее природе как о системном явлении на наивысшей ступени своего развития выступающем в качестве субстанции капитала. Высшей стадией развития товарных отношений является превращение капитала в товар-капитал, формирование рынка капиталов, ценностным ориентиром для трансакций, с которым выступает прогнозируемая капитализированная будущая доходность вложений данного капитала. Стоимость товара-капитала на финансовом рынке и выступает как ожидаемая вероятностная его ценность (капитализированная доходность).
Уже много десятилетий назад капитал оказался ограничен своими собственными пределами развития. Перенакопление капитала в современную эпоху перешло в совершенно новую плоскость. Специфическим именно для последних десятилетий фактором усиления перенакопления капитала стало приоритетное развитие финансового сектора. В последние годы идет перелив ресурсов из сферы материального производства в иные сферы, где не создается ни материальных благ, ни средств развития человеческих качеств (финансовые спекуляции, многообразные формы посредничества, индустрия досуга, переразвитая сфера ВПК, бюрократический государственный и корпоративный аппарат). Приоритетное развитие этого сектора стало следствием перенакопления капитала в реальном секторе и вследствие обратных связей интенсифицировало это перенакопление.
Диалектичность данного процесса заключается, по мнению автора, в том, что для эффективного преодоления проблем реального сектора капиталу понадобилось оторваться от этого сектора, возвыситься над ним, перейти в новую сферу, трансформироваться в новую форму и перейти в качественно новое состояние. Он не мог далее эффективно применяться, принося хотя бы среднюю прибыль, в отраслях сферы материального производства, содействующих прогрессу производительных сил, и выплеснулся в финансовую сферу. Этот процесс, с одной стороны, открыл новые сферы экстенсивной экспансии капитала, с другой стороны – частично разрядил напряженность в реальном секторе. Но, кроме этого, породил принципиально новую – титульную или фиктивную форму существования капитала.
Для правильного понимания природы фиктивной формы капитала, принципиально отличающей от его производительной, товарной и денежной форм необходим новый подход к пониманию природы собственности.
Отношения собственности, формирующие фундаментальную основу экономической системы и представляющие собой отношения по поводу присвоения, принадлежности материальных и нематериальных объектов, находятся в постоянном развитии, порождают новые формы своего существования и реализации, что позволяет глубже понять экономическую сущность собственности.
Длительное время в экономической теории господствовали неоклассические подходы к данной проблеме, основанные на континентальной системе права, в котором права собственности сводились к «одномерному» неделимому институту («идеальная частная собственность»). В основе этого лежала континентальная правовая традиция, представленная в Кодексе Наполеона. Права собственности в континентальном праве рассматривались узко применительно к материальным объектам, односубъектно и включали три элемента: право пользования, право на доход, право на управление. В неоклассической теории господствовал подход к определению и исследованию собственности как к «внутри себя нерасчлененному целому», абсолютному и неделимому, то есть происходил непроизвольное отождествление собственности с ее материальным объектом, существующей в неразрывной связи как с субъектом, так и с объектом присвоения.
Такие представления не приходили в противоречие с действительностью до тех пор, пока не начал формироваться рынок капиталов, важнейшей формой которого стало обращение ценных бумаг на бирже. В этих условиях получили практическую реализацию идеи К. Маркса о необходимости и возможности обособления капитала-собственности от капитала-функции, допускающие автономное существование и движение собственности в отрыве от своего материального объекта. Этот феномен был подробно исследован Р. Гильфердингом. В своем фундаментальном труде, посвященном финансовому капиталу, он проанализировал происходящие на бирже процессы превращения и удвоение прав собственности, перехода собственности отдельных лиц к юридическому лицу, перенесение собственности независимо от производства, самостоятельного движения собственности, не определяемого производственными процессами, утраты всякой непосредственной связи собственности с потребительной стоимостью. Такая модификация отношений собственности позволила осуществить концентрацию собственности вне зависимости от процесса концентрации в промышленности путем концентрации фиктивного капитала, открыв возможности для возникновения финансового капитала.
Этот феномен был охарактеризован Р. Гильфердингом как появление чистой абстрактной формы собственности, ее превращение в простое свидетельство на доход, титул дохода, взятый сам по себе, вне процесса производства. Это явление было определено Т. Вебленом как исчезновение собственности, превращение ее в абсентеистскую (реально отсутствующую). На самом деле, по мнению автора статьи, возникла новая форма существования собственности, опосредованная от своего объекта, которая не укладывалась в неоклассические представления о ней. Это свидетельствовало о необходимости более глубокого переосмысления представлений о собственности как таковой, что было сделано представителями теории неоинституционализма.
Неоинституционалисты рассматривают феномен собственности как сложное экономико-правовое явление. По их мнению, объектом сделки являются не сами блага, а совокупность прав (или правовых полномочий) по отношению к этим благам (так называемый пучок прав собственности, который передается из рук в руки в ходе трансакции).
Особенность данного подхода в том, что в нем частная собственность предстает как неустойчивая развивающаяся система, требующая постоянной финансовой подпитки, без которой она не может существовать. Квинтэссенция неоинституциональной концепции заключается в следующем положении: состояние пучка прав собственности влияет на то, каким образом в экономике распределяются и используются редкие ресурсы. В общем праве собственность определяется как пучок 11 правомочий, который может относиться как к материальным, так и нематериальным объектам. Важным является делимость пучка. Права собственности делятся на абсолютные (субъект-объектные) и относительные (субъект-субъектные). Они бывают экономические (напрямую и косвенно потреблять товар), а легальные – это средства для достижения целей. При помощи частной собственности редкие ресурсы автоматически перетекают в руки эффективных собственников, но при нулевых трансакционных издержках. Критериями эффективности собственности являются: наличие конкретного владельца, эксклюзивность (или спецификация – четкое закрепление за владельцем), свободное обращение прав собственности в экономике. Очень важны аллокация (первоначальное распределение), разграничение и защита прав собственности.
Таким образом, сторонники данной теории рассматривают собственность как неустойчивую развивающуюся систему, в отличие от неоклассиков, для которых она незыблема, рассматривается как «данность» и укладывается в рамки неизменности институциональных основ общества. В рамках новой институциональной теории преодолевается ограниченность неклассического подхода к правам собственности как к «одномерному» и неделимому институту. Они исследуют собственность как «пучок правомочий», то есть правомочий, которые зачастую могут существовать и передаваться по отдельности (делимость пучка прав собственности). Также в отличие от неоклассического понимания «идеальной частной собственности» рассматриваются различные правовые режимы коллективной, частной и государственной собственности.
Дж. Коммонс считает, что стадия индивидуального обмена характерна для низших стадий развития экономики, а на развитой стадии сделки охватывают неосязаемую собственность. Он выделяет двойственный характер собственности, открывающий возможность передачи права собственности без сопутствующей передачи предметов. В современном обществе понятие об объекте собственности претерпело радикальные изменения: вместо телесной материальной вещи теперь речь идет об ожидаемой меновой ценности [4, с.78].
Обособление некоторых пучков правомочий (капитал-собственность) от вещественных форм материализации капитала (капитал-функция) и их последующая структуризация в форме титула капитала, самостоятельно обращающегося на финансовом рынке, трансформировала вышеназванные титулы в фиктивную форму капитала, не имеющего собственной ценности, но способствующего обращению фиктивной стоимости (прогнозной ожидаемой капитализированной доходности капитала-функции).
Таким образом, фиктивная форма капитала – это титульная форма его существования (капитал-собственность). Одновременно – это есть титульная форма движения и обращения капитала-функции на финансовом рынке при посредстве движения капитала-собственности. Она представляет собой фиктивный капитал, как капитал в принципе, не имеющий собственной стоимости. Этот капитал представляет собой атрибутивную превращенную (производную) форму капитала, которая прошла через систему опосредований и существует в отрыве от собственного капитала-функции, с которым в конечном счете фундаментально, сущностно связана и определяется им. Такое относительное обособление друг от друга в рамках единого капитала двух его сторон может быть объяснено делением производственных отношений на «первичные» (определяющие бытие и существование системы) и «вторичные» (характеризующие механизм функционирования системы.
Появление новой формы существования привело к принципиальному изменению состояния капитала. Он существенно изменился. И проблема заключается не только и не столько в опережающем росте финансового сектора (типичная трактовка «отрыва» современными западными авторами), сколько в господстве финансового капитала над всей остальной экономикой.
Это господство, пройдя через период некоторых ограничений в середине XX в., ныне стало еще более значимым, изменив характер функционирования капитала. С одной стороны, как разновидность финансового капитала, опирающегося на власть гигантских корпораций, сращенных к тому же с мощнейшими государствами мира, фиктивный капитал обрел гораздо большую устойчивость. С другой стороны, он еще больше оторвался от своей материальной основы, капитала тех сфер, где рождается стоимость, стал виртуальным. На практике это превращение приняло вид явления, названного учеными США и Европы финансиализацией [1].
Наиболее значимые чертами этого явления выступают:
– количественный и качественный сдвиг в пользу финансового сектора (растущие опережающими темпами объемы трансакций, более высокая норма прибыли, отток сюда основных ресурсов, создание новых институтов);
– определяющее влияние этого сектора на всю систему аллокации ресурсов и координат (направление потоков инвестиций, принятие решений, структура цен во всей экономике определяется ныне АО во многом конъюнктурой финансового сектора. Кроме того, приоритетное развитие финансового капитала вызвало волну дерегулирования, финансовые спекуляции стали «регулятором» субститутом государственного воздействия на экономику;
– существенные изменнения отношений собственности (система прав собственности на постоянно «странствующий» фиктивный капитал – тема особого исследовании) и распределения дохода;
– вся система общественного воспроизводства приобрела многие специфические черты, среди которых – резко возросшая зависимость этого процесса от случайных факторов, рисковость, нестабильность экономической системы, «шот-термизм» – черты, давшие содержательные основания для того, чтобы назвать эту систему «казино-капитализм». В результате сформировался особый тип человеческого поведения – ориентация на финансовые транзакции как главный способ жизнедеятельности. По мере развития финансиализации «homo finansus» становится едва ли не господствующим типом личности (причем это характерно не только для предпринимателей, но и для потребителей) [1].
Как таковой фиктивный капитал отныне живет в виртуальной среде, оторван от любого материального носителя. Он постоянно движется, причем с очень высокой скоростью. Вследствие этого ему свойственны постоянная смена субъекта собственности и размытость, диффузия прав собственности. Он утратил такие характерные особенности, как управляемость, планомерность процесса внутренней жизнедеятельности (управление фирмой для виртуального капитала заменятся игрой на биржах, где господствуют не собственники акций, а «рейн-меркеры» [1].
Его величина, эффективность зависят в первую очередь не от качества продукции и издержек ее производства, а от случайных факторов, от постоянно изменяющейся конъюнктуры рынков фиктивных бумаг. Он отрывается от реального процесса поиска наиболее эффективных решений производства товаров и услуг и превращается в относительно самодостаточный мир спекуляций.
Этот капитал более не имеет некоторой локализации в пространстве и во времени экономической жизни. Он, говоря языком Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «детерриторизован», не имеет «прописки», «земли», к которой он был хоть как-то привязан. Как таковой он легко уходит из-под любого – национального и международного – государственного регулирования. И в то же время он оказывается виртуален двояко – с «технологической» точки зрения (живет в компьютерных сетях) и с точки зрения вероятности.
Виртуальный фиктивный капитал, достигнув невероятных еще двадцать лет назад масштабов, превратился в своеобразный «черный ящик», живущий относительно независимо от системы общественного воспроизводства. Это именно «черный ящик», изменения в его структуре и величине происходят быстро, он столь вездесущ, что познание его внутреннего строения, системы взаимодействий и т.п. представляет принципиально неразрешимую задачу. Известно лишь, что он некоторым образом (но не всегда) реагирует на некоторые внешние раздражители (регулирующие меры крупнейших государств и международных финансовых институтов). Теоретически и практически выверенной модели жизнедеятельности этого «ящика» нет. Как «черный ящик», он способен продолжать относительно стабильно функционировать, но может породить и финансовый кризис.
Процессы генезиса нового качества экономики XXI в. не случайно оказались «завязаны» на два феномена – глобализацию и развитие современных технологий. Оба эти процесса не случайно вызвали к жизни феномен виртуального фиктивного капитала. На поверхности эти процессы проявили себя как прогрессирующие развертывание виртуальной экономики, финансовая глобализация и итожащая все это «финансиализация». Финансовый рынок в условиях глобализации является мировым и лишь отчасти зависит от регулирования, которое осуществляется преимущественно на национальном уровне.
Фиктивный капитал «живет» исключительно как некоторый знак возможного получения прибыли и имеет свою стоимость только как производная нескольких параметров весьма далеких от процесса создания стоимости.
Этот капитал фиктивен не в том смысле, что он нереален, а в том, что перед нами реальность особого рода. Такой капитал по своей природе количественно и качественно неопределен. Он не может быть определен количественно, ибо в принципе неизвестно и не может быть даже приблизительно оценено, какова его действительная величина, то есть стоимость, выраженная в денежном эквиваленте. Известна лишь постоянно изменяющаяся оценка, зависящая не от стоимости данного «товара». Существенно изменились отношения собственности, став системой прав собственности на постоянно «странствующий» фиктивный капитал и распределения дохода.
Фиктивная форма капитала является неким триединством: это одновременно есть форма существования капитала, собственности и риска.
Таким образом, фиктивную форму капитала можно рассматривать как виртуальный капитал. Виртуальность в данном случае означает не только электронную форму, но и их вероятностное, неустойчивое, случайное бытие. Она позволяет охарактеризовать его как реальность особого рода, имеющую качественную и количественную неопределенность, аллокированность в пространстве и во времени, неподконтрольность регулированию, играющую роль универсального оценщика любого актива и механизма сделок с любой формой капитала, берущего на себя функции денег как меры стоимости и механизма обращения.
Капитал порождает в процессе своего самоотрицания новое пространство и новое время своего доминирования – сферу трансакций. Это пространство и время жизнедеятельности международного виртуального фиктивного капитала, которые могут быть соотнесены с самой формой финансового рынка.
Виртуальная форма этого капитала оказывает значительное влияние на его содержание, делая его адекватным современным экономическим реалиям современной глобализированной экономики в эпоху «финансовой турбулентности»:
– виртуальный капитал становится принципиально более мобилен во времени и в пространстве, нежели капитал, имеющий любую другую форму. Виртуальное бытие позволяет ему перемещаться в любые точки пространства с практически мгновенной скоростью и с минимальными «транспортными» (транзакционными) издержками. Тем самым виртуальный капитал обретает такой носитель, такое материальное воплощение, которые сами по себе являются всемирными и вечными;
– виртуальный капитал, оказывается, связан с конкретным субъектом (физическим или частным лицом), с конкретным положением в социальном пространстве-времени лишь по форме собственности и может менять своего хозяина сколь угодно быстро и часто (что и происходит постоянно на финансовых рынках). Если добавить к этому принципиальную сложность (такую сложность, когда отображение всех связей в системе уже невозможно) и размытость современной системы прав собственности, то станет ясно, что виртуальный капитал – это не только капитал, оторвавшийся от производства, но и не находящийся сколько-нибудь устойчиво в частной собственности каких-либо конкретных физических или юридических лиц. Последнее означает, что виртуальный капитал не является объектом сколько-нибудь устойчивого регулирования и контроля со стороны какого-либо лица;
– противоречие между свойствами информации и свойствами капитала приводит к тому, что частная собственность на виртуальный капитал, его отчуждение и присвоение становятся феноменами, зависимыми от формальных и тоже виртуальных «правил», регулирующих его движение. Всякие материально-производственные и личностные связи (в том числе между собственном капитала и работниками, а также связи собственников с физическими объектами постепенно исчезают и заменяются процессами, протекающими в компьютерных сетях. Более того, виртуальный капитал в целом становится полностью зависимым от качества информационной сети (она едина во времени и пространстве) в целом. Субъект, контролирующий информационные сети всего мира, оказывается властелином единого материального носителя всего виртуального капитала, материального носителя «всех денег мира» (но не денег как таковых, ибо деньги – это не материальный носитель). Тем самым виртуальный характер капитала, обретение капиталом-деньгами нового носителя означает и существенные изменения в социально-экономическом содержании капитала. Этот носитель позволяет любому капиталу стать всемирным, вечным и предельно подвижным, имеющий такой носитель капитал лишь формально связан с конкретным собственником, и эти связи постоянно меняются, что является его атрибутивной характеристикой: он зависим во всех своих звеньях от единой информационной системы человечества и является предельно могущественным и в то же время предельно уязвимым.
Существуя прежде всего виртуально (в компьютерных сетях), он тем не менее реально впитывает все высшие достижения цивилизации, все больше укрепляет свое господство, выкачивая соки из материального производства, природы и человека.
Создание прибавочной стоимости допотопными формами капитала (купеческим и ростовщическим, действовавшими вне непосредственного материального производства) было объяснено Марксом способностью рабочей силы создавать прибавочную стоимость. Разрыв этой связи ныне происходит вне материального производства, в рамках обращения, где транзакции сами по себе приносят дополнительные деньги. Но нынешний этап – это не просто возврат к спекуляциям торгового и ростовщического капитала. Это нечто большее.
Накладываясь на гигантский рост обобществления в мировом масштабе (высокоэффективные и дешевые транспортные и телекоммуникационные системы и т.п.), и, главное, генезис электронных технологий, «рынка сетей», и виртуальных денег капитал порождает в процессе своего самоотрицания новое пространство и новое время своего доминирования – сферу трансакций. Именно здесь сосредоточены основные (по своей роли) и гигантские по своим масштабам (сравнимые с бюджетами государств) капиталы современного мира.
Для глобальной экономики рубежа веков характерно, что наиболее современные, определяющие лицо экономики сегодняшнего и завтрашнего дня информационные продукты сейчас, главным образом, производятся, потребляются, распространяются в секторе воспроизводства превращенных форм человеческой жизнедеятельности, то есть в сфере, где одни превращенные социально-экономические формы используются для производства, тиражирования других таких же превращенных форм. С социально-экономической точки зрения этот сектор есть сфера создания, потребления и превращений (транзакций) продуктов глобального виртуального капитала.
Виртуальная форма фиктивного капитала обладает на несколько порядков большей степенью мобильности и скорости обращения во времени и в пространстве, характеризуется значительной степенью концентрации, обладает меньшей степенью интеграции с производственным сектором.
Постепенное отдаление фиктивного капитала от целей и потребностей материального производства приводит к смене приоритетов в выпуске ценных бумаг: вместо привлечения дополнительного капитала – смена прав собственности.
Таким образом, современная виртуальная фиктивная форма капитала – это есть новое качество капитала, соединение прежних качеств фиктивного и финансового капитала и новых качеств, порожденных развертыванием информационных технологий, корпоративно-сетевого рынка и процессов сращивания транснациональных финансовых и иных корпораций, национальных государств и международных финансовых институтов.
Существование и движение фиктивной формы капитала в теоретическом плане углубляет научные представления о сущности капитала, собственности, стоимости, а на практике преодолевает накопившиеся ограничения, придает капиталу свойства, адекватные современному состоянию экономики, позволяет строить адекватную новой эпохе систему институционального регулирования финансовой сферы.
Список литературы Экономические метаморфозы и преодоление границ в движении капитала в эпоху глобализации
- Бузгалин А. В., Колганов А.И. Глобальный капитал. М.: УРСС, 2004. 512 с. EDN: QQFGBP
- Ермолаев К.Н. Преодоление границ в движении капитала в эпоху глобализации: о фиктивной (титульной) форме существования капитала // Границы и переходы: социальные инновации в культурном процессе. Самара: Век #21, 2010. 272-287.
- Канке В. А. Философия экономической науки: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 384 с. EDN: QILSUL
- Корнейчук Б. В. Институциональная экономика: учебное пособие для вузов. М.: Гардарики, 2007. 255 с. EDN: QWOCJV