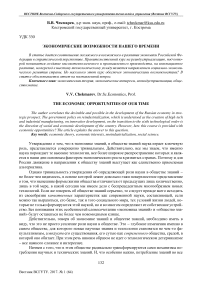Экономические возможности нашего времени
Автор: Чекмарев В.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 1 (64), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье дается соотношение желаемого и возможного в развитии экономики Российской Федерации в стратегической перспективе. Правительственный курс на реиндустриализацию, под которой понимается создание высокотехнологичного и промышленного производства, на инновационное развитие, на переход к шестому технологическому укладу является направлением социально-экономического развития страны. Но насколько этот курс обеспечен экономическими возможностями? В статье обосновывается ответ на поставленный вопрос.
Экономическая теория, экономические интересы, неоиндустриализация, обществознание
Короткий адрес: https://sciup.org/142143300
IDR: 142143300 | УДК: 330
Текст научной статьи Экономические возможности нашего времени
Утверждение о том, что в экономике знаний, в обществе знаний наука играет ключевую роль, представляется совершенно тривиальным. Действительно, все мы знаем, что именно наука порождает те высокие технологии, все более широкое распространение которых и является в наши дни основным фактором экономического роста в развитых странах. Поэтому и для России движение в направлении к обществу знаний выступает как единственно приемлемая альтернатива.
Однако тривиальность утверждения об определяющей роли науки в обществе знаний - не более чем видимость, в основе которой лежит довольно-таки поверхностное представление о том, что нынешние формы жизни общества отличаются от предыдущих лишь количественно, лишь в той мере, в какой сегодня мы имеем дело с беспрецедентным многообразием новых технологий. Если же говорить об обществе знаний серьезно, то следует прежде всего исходить из своеобразия качественных характеристик как современной науки, составляющей, если можно так выразиться, его базис, так и того социального мира, тех условий жизни людей, которые не только формируются этой наукой, но и во многом определяют ее собственное устройство. Без понимания этих особенностей словосочетания «экономика знаний» и «общество знаний» будут оставаться не более чем новомодными клише.
Действительно, говоря об экономике знаний и обществе знаний, необходимо иметь в виду, что это не просто усиление роли науки в обществе. Это - глубокие изменения именно в самом обществе, для которого новые научные знания и технологии становятся не чем-то факультативным, а модусом его существования, его сутью как современного общества, средой, в которой оно обитает. При этом речь никоим образом не идет о технологическом детерминизме - все намного сложнее и интереснее.
Начнем с того, что в этом обществе радикально трансформируются сами механизмы потребления научных и технических знаний. И, что особенно важно, потребление знаний во все большей мере начинает воздействовать на способы и формы их производства, задавая определенные требования к характеристикам тех (новых) знаний, которые еще только предстоит получить. Один из прародителей термина «общество знаний» - американский социальный философ и социолог П. Дракер - в 1994 г. говорил о предстоящих социальных трансформациях - становлении «общества знаний», которое изменит природу труда, высшего образования и способ функционирования всего общества как сложной взаимосвязанной системы [6].
П. Дракер исходил из того, что превращение научных знаний в главный источник новых технологий начало происходить, если судить по историческим меркам, сравнительно недавно. По его словам, еще в XVIII в. «никто даже не пытался рассуждать о применении науки для разработки орудий производства, технологий и изделий, т.е. об использовании научных знаний в области техники и технологии. Эта идея созрела лишь... в 1830 г., когда немецкий химик Ю. фон Либих (1803 - 1873) изобрел сначала искусственные удобрения, а затем способ сохранения животного белка» [6, с. 82]. Именно в это время начинается, согласно Дракеру, промышленная революция как процесс глобального преобразования общества и цивилизации на основе развития техники. При этом научные знания начинают выступать в новой, не свойственной им прежде, роли - в роли фактора, активно воздействующего на жизнь человека и общества и динамизирующего ее.
В контексте технологического применения науки исследование выступает не только как познание мира как он есть сам по себе, мира естественного, но и как преобразование этого мира естественного , т.е. как создание мира (а точнее, миров) искусственного . И в этой своей ипостаси исследование оказывается прообразом технологического способа освоения и, более того, видения мира. Однако не будем при этом забывать и о сложности во имя сложности. Например, блоха, подкованная Левшой, являет собой яркий пример российских нанотехнологий: никому не видно и никому не нужно.
Сегодня технологическая роль науки стала доминирующей, а многие даже видят в создании новых технологий единственную функцию науки. При этом путь практического воплощения научных знаний и основывающихся на них технологий представляется примерно таким. Сначала в голове теоретика и (или) в исследовательской лаборатории делается какое-либо открытие. Затем результат этого исследования в ходе того, что называют разработкой (или развитием), воплощается в новых (инновационных) технологиях. Следующие стадии процесса связаны с тем, что каждая инновация находит - с большими или меньшими злоключениями - практическую реализацию в производственной или какой-то иной сфере человеческой деятельности. Иными словами, для традиционного порядка вещей характерно следующее: сначала создается инновация, а затем для нее ищутся рынки сбыта. Говоря о злоключениях, имеем в виду, в частности, пресловутую проблему «внедрения», по поводу которой ломались копья в нашей стране на протяжении многих десятилетий и которая до сих пор так и не получила сколько-нибудь удовлетворительного решения. В связи с этим имеет смысл задуматься о том, что, быть может, некорректна сама постановка проблемы [18].
В наших устоявшихся воззрениях, таким образом, появление всякой инновации выступает как выход за пределы данного, уже освоенного нами рутинного порядка вещей. Слово «внедрение» представляется здесь весьма характерным, поскольку оно несет, помимо всего прочего, и тот смысл, что происходит некое воздействие извне, вмешательство, нарушающее привычный ход событий, нечто экстраординарное.
Сегодня, однако, можно, если воспользоваться термином М. Вебера, говорить о рутини-зации самого процесса технологических обновлений, когда новые технологии уже не вторгаются в производственную деятельность, в жизнь людей, а занимают заранее определенные «ячейки». Иными словами, новые технологии изготовляются «на заказ». Все чаще последовательность выстраивается прямо противоположным по сравнению с привычным образом: разработка новой технологии начинается тогда и постольку, когда и поскольку на нее уже имеется спрос.
Ныне, в начале XXI столетия, имеются все основания говорить о возникновении качественно новой стадии развития не только науки и техники, но и их взаимодействия с обществом. Одним из выражений этого является становление нового типа взаимоотношений науки и технологии, который получил название tehnoscience - технонаука. Так, британский социолог науки Б. Варне пишет: «Термин "технонаука" ныне широко применяется в академических кругах и относится к такой деятельности, в рамках которой наука и технология образуют своего рода смесь или же гибрид... технонауку следует понимать как специфически современное явление» [B. Barnes, 2005, р. 142 - 161]. Наиболее очевидный признак технонауки - это существенно более глубокая, чем прежде, встроенность научного познания в деятельность по созданию и продвижению новых технологий. По словам немецкого социолога и политолога В. Шефера, «технонаука - это гибрид онаученной технологии и технологизированной науки. Всемирная телефонная связь и генетически модифицированная пища - это технонаучные вещи: своим вторжением в наш мир они обязаны замысловатому переплетению определенных человеческих интересов с современным пониманием электричества, с одной стороны, и генетики - с другой» [W. Schafer, 2002]. Здесь, как мы видим, обращается внимание на тот факт, что технонаука - это не только теснейшая связь науки и технологии, но и симбиоз, включающий также человеческие устремления и интересы.
Взаимоотношения науки и техники в этом симбиозе, впрочем, внутренне противоречивы. С одной стороны, наука выступает как генератор новых технологий, и именно в силу устойчивого спроса на эти новые технологии она пользуется определенной и подчас весьма щедрой поддержкой. С другой стороны, производство новых технологий определяет спрос на науку определенного, если угодно, ограниченного, одностороннего типа, так что многие потенции науки при таком ее использовании остаются нереализованными. Грубо говоря, от науки не требуется ни объяснения, ни понимания вещей, достаточно того, что она позволяет эффективно их изменять.
Помимо всего прочего, это предполагает понимание познавательной деятельности, включая и научную, как деятельности в некотором смысле вторичной, подчиненной по отношению к практическому преобразованию, изменению и окружающего мира, и самого человека. Тем самым, напомним, открывается возможность для переосмысления, точнее даже сказать, оборачивания сложившегося ранее соотношения науки и технологии. Если традиционно это соотношение понималось как технологическое приложение, применение кем-то и когда-то выработанного научного знания, то теперь оказывается, что сама деятельность по получению такого знания «встраивается» в процессы создания и совершенствования тех или иных технологий.
Интересно не только то, как подобные трансформации происходят в реальности, но и то, как они осмысливаются. На поверхности все вроде бы остается по-старому: провозглашается, что наука - это ведущая сила технологического прогресса, который, в свою очередь, использует достижения науки.
На этом фоне, впрочем, пробуждается осознание того, что, поскольку так называемая прикладная наука занимается теми проблемами, которые диктуются именно инновационным вектором экономики, то по количественным масштабам, и по финансовому и иному обеспечению, и по социальному признанию такая обслуживающая наука становится определяющей. Регулятивом научной деятельности становится не получение знания, так или иначе претендующего на истинность, а получение эффекта, который может быть воплощен в пользующуюся спросом инновацию.
Следует отметить, что и в общественных ожиданиях, обращенных к науке, сегодня явно доминируют запросы на новые эффективные технологии, а не на объяснение мира. Такого рода трансформации во взаимоотношениях между наукой, технологией и обществом, в част- ности реальный переход науки с авангардных на служебные роли, начинаются в сфере естественных наук, но затем захватывают и науки социально-гуманитарные. Не исключением является и экономическая наука.
Итак, и общество, и государство (включая даже органы, ответственные за формирование политики в области науки) все в большей мере склонны воспринимать и исследовательскую деятельность, и саму науку почти исключительно в облике машины, способной генерировать инновации. Пожалуй, наше государство в этом отношении готово пойти дальше других, стремясь едва ли не совсем избавиться от такой обузы, как финансирование науки. Имеется в виду, что наука, исключая ту, которая работает на «оборонку», должна перейти на самообеспечение, зарабатывая прежде всего на создании и продвижении на рынок новых технологий. При этом практическое отсутствие в стране инфраструктуры, способной обеспечивать востребованность новых технологий, трактуется в том смысле, что «тем хуже для науки». Однако такая технонаука имеет дело прежде всего не с объектами как таковыми, а с обширными контурами, включающими помимо этих объектов также совместную, согласованную деятельность самых разных людей и социальных структур. И понятие технонауки - это лишь одна из многих попыток как-то зафиксировать то качественно новое состояние науки, в котором она оказывается в начале XXI столетия. Среди таких попыток представляет интерес, в частности, то различение двух стилей науки, которое проводит австрийский социолог науки, председатель Европейского консультативного совета по исследованиям Х. Новотны [H. Novotny, 2001]. По ее словам, эпистемология, характерная для науки стиля-1, основывается на четком разделении науки и общества. Что касается науки стиля-2, то для нее характерны иные черты.
Во-первых, проблематика исследований определяется в контексте приложений, который выстраивается в ходе диалога - нередко очень непростого - различных сторон, которые так или иначе будут затронуты этими приложениями. Во-вторых, на смену характерным для университетов иерархическим структурам, жестко разграничивающим отдельные дисциплины, приходят существенно гетерогенные, нежесткие структуры организации исследований. В-третьих, трансдисциплинарность науки стиля-2: направленность интеллектуальных усилий в ней определяется не столько интересами тех или иных научных дисциплин, сколько требованиями, задаваемыми контекстом приложений.
Привычное понимание коммуникаций между наукой и обществом заключается в том, что есть те, кто не является исследователем, не знаком с новейшими достижениями науки и кого необходимо информировать. Что касается науки стиля-2, то она формируется на основе запросов общества по поводу своих желаний, потребностей и опасений. Это включение человека в процессы производства знаний, необходимость определения его места в них X. Новотны характеризует как контекстуализацию, затрагивающую и те области производства знаний, которые кажутся чрезвычайно далекими от сферы обитания людей [H. Novotny, 2001].
Таким образом, наука стиля-2 развивается не только в контексте приложения (аппликации) новых знаний, но и в контексте их человеческих последствий (импликаций). Ученым в лабораториях постоянно приходится задаваться вопросом: каковы последствия того, что мы делаем, и того, как мы формулируем проблемы? Речь в данном случае идет не только о том, чтобы предвидеть эти последствия, но и о чем-то более радикальном, а именно о необходимости задаваться этим вопросом в научных лабораториях, имея при этом в виду возможность различных ответов на него.
Другая характеристика специфических черт науки XXI в. принадлежит французскому социологу Б. Латуру. Он проводит различие между наукой и исследованием и говорит о переходе от культуры науки к культуре исследований: «Наука - это определенность, исследование - неопределенность. Наука понимается как нечто холодное, безошибочное и беспристрастное; исследование - теплое, путанное и рискованное. Наука порождает объективность, изо всех сил избегая оков идеологии, страстей и эмоций; исследование питается всем этим, чтобы приблизиться к изучаемым объектам» [B. Latour, 1998, р. 208].
Одной из наиболее значимых отличительных характеристик современной науки становится изменяющееся место в ней того, что относится к ценностной проблематике. На протяжении долгого времени наука отстаивала идеалы беспристрастности, свободы от ценностей как гаранта получения достоверных знаний. Сегодня ситуация существенно усложнилась, хотя речь вовсе не идет об отказе от этих идеалов, тем не менее ценностное измерение начинает восприниматься как существенная характеристика и изучаемой наукой реальности и самого научного познания. В.С. Степин, в частности, говорит о том, что «трансформируется идеал ценностно нейтрального исследования. Объективно истинное объяснение и описание применительно к «человекоразмерным» объектам не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений. Возникает необходимость экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными ценностями общесоциального характера» [14, с. 631].
Основываясь на вышеизложенном, можно констатировать: чем больше наука претендует на то, что она служит интересам и благу человека, тем более значительную роль в ней должны играть исследования, в которых человек участвует в качестве испытуемого. Но участие в таких исследованиях по самой своей сути сопряжено с большим или меньшим риском для испытуемых. Таким образом, возникает ситуация конфликта интересов: с одной стороны, исследователь, стремящийся к получению нового знания, с другой - испытуемый, для которого на первом месте терапевтический эффект, скажем, излечение недуга, ради чего, собственно, он и соглашается стать испытуемым. И в той мере, в какой именно на человеке начинает концентрироваться мощь научного познания, в какой наукой разрабатываются все новые, все более тонкие и эффективные средства воздействия на него, неизбежно возрастают элементы риска и опасности, которым он подвергается. Следовательно, актуализируется задача защиты того же самого человека, ради которого и осуществляется прогресс науки и техники, от негативных последствий этого прогресса. В результате резко обостряется необходимость выявлять такие последствия и тем или иным образом реагировать на них.
Извне попросту невозможно оценить и измерить тот человеческий, интеллектуальный, организационный капитал, которым обладает академическое сообщество и который накапливался в течение многих столетий. Во всяком случае, эта невозможность дать оценку не должна служить основанием для непродуманных преобразований, осуществляемых по заимствующим где то на стороне лекалам. За последние десятилетия мы, увы, слишком часто сталкивались с попытками реформирования самых разный сфер жизни общества, когда обновление приводило к тому, что не только не удавалось избавиться от тех недостатков старого, на преодоление которых были направлены замыслы реформаторов, но и само-то новое несло с собой не менее серьезные недостатки.
В жизни всегда имеются «задворки». Это тот незначимый жизненный пласт, который мало кого интересует. Ведь умение отделять важное от второстепенного является доказательством рационального дифференцирования окружающего нас мира - иначе мы бы просто погибли под пугающе нарастающей грудой бесконечных мелочей.
Второстепенный для непосвященных, но первостепенный для посвященных вопрос взаимоотношения экономики и экономистов до сих пор остается на периферии экономической науки. Что ж, для «неэкономистов» (т.е. практически для всего общества) такого вопроса просто не существует, ибо это внутринаучный вопрос. Однако он очень важен для самих экономистов. Собственно, только этот вопрос и решают, не признаваясь в этом, экономисты: если действительно существует так называемая «экономическая психология», то ее предметом может являться лишь одно - отношение экономистов к экономике: ведь фактически все, что сочиняют экономисты, есть потайные, плохо осознаваемые и тщательно скрываемые «любовь и ненависть» экономистов к экономике [11].
Как бы ни возражали коллеги из других областей научного мира, следует с самого начала и прямо заявить - из всех объектов научного познания экономика представляет собой объект наивысшей сложности, поскольку экономические процессы трижды дуалистичны по своей природе - они объективно-субъективны, вещественно-невещественны, чувственно-сверхчувственны. Такая «утроенная двойственность» порождается удивительным положением экономики как сферы, «пограничной» между природным и социальным мирами, связывающей их и потому одновременно принадлежащей и природной субстанции, и социальной. Именно эта онтологическая особенность экономики диктует и ее гносеологическую специфику, что, в свою очередь, означает: экономика может открыться только тому познающему ее разуму, который адекватен ее дуалистической природе. Другими словами, умение видеть в субъективном - объективное, в вещественном - невещественное, в чувственном - сверхчувственное входит в предметно-гносеологическую императивность экономического инструментария. Разумеется, все эти «акциденции» познающего экономику разума необходимы ему при действительно научном (т.е. теоретическом) познании. Ведь научное познание - это познание исключительно теоретическое (абстрагированное), и никаким другим оно быть не может. Для эмпирического же описания многочисленных и бесконечных экономических процессов все эти - на взгляд эмпирика - «штучки-дрючки», столь дорогие сердцу теоретика, вовсе не нужны, а, напротив, только усложняют ничем не замутненную эмпирическую рефлексию как источника особого - «эмпирического знания», добываемого при помощи непосредственных чувств и ощущений. Впрочем, как обнаруживают реалии отечественной экономической науки, здесь возможны и удивительные «новации». Во всяком случае, официальное признание административным механизмом научной аттестации, наряду с «экономической теорией», еще ряда областей экономической науки, поставленных в «равностатусную» с ней позицию, свидетельствует только об одном - о тяжелом недуге, постигшем именно отечественную экономическую науку. Ведь это фактически меняет внутринаучную иерархию между различными отраслями экономического знания, а следовательно, и иерархию их приоритетов [11].
Экономическая теория, до недавнего времени единолично представлявшая экономическую науку, ныне теряется среди внезапно возникших многочисленных экономических «наук», не только занявших (без предъявления каких-либо доказательств) равностатусное с ней положение, но даже порой свысока на нее поглядывающих, а иногда и покрикивающих на нее. Официальное признание в качестве особых и самостоятельных экономических наук получили более тридцати (!) отраслей экономического знания, по которым сформирован полный механизм научной аттестации. Этим фактически создана целая отрасль, в которой занято множество людей, коим нет нужды в знании «абстрактной» экономической теории (и в этом плодотворном убеждении они, естественно, наставляют и своих питомцев), - финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет, статистика; математические и инструментальные методы экономики; мировая экономика; теория управления экономическими системами; макроэкономика; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство; маркетинг; экономика и управление качеством; предпринимательство; экономическая безопасность; ценообразование; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (которая также дифференцируется на особые отрасли знания - промышленность; АПК и сельское хозяйство; строительство; транспорт; связь и информатизация; сфера услуг).
Неизбежное пагубное следствие внутринаучной «реиерархизации» не заставило себя долго ждать: возвышение прикладных отраслей экономического знания до уровня «теоретического» знания означало низведение теоретического знания до уровня «прикладного» знания, из-за чего оба этих вида экономического знания превратились в пародию на самих себя, занимаясь ненужным делом, - прикладное знание «медитирует», тщетно тужась предстать теоретическим, тогда как теоретическое знание стыдливо «имитирует», пытаясь выдать себя за разновидность прикладного.
Напрасные усилия - мир науки устроен именно таким образом, что прикладное знание никогда не сможет приобрести методологической ценности, присущей теоретическому знанию, а теоретическое знание неспособно принести прагматическую пользу, будучи «псев-доприкладным» знанием.
Таким образом, погнавшись сразу за «двумя зайцами», экономисты потеряли обоих, лишившись одновременно и теоретического, и прикладного знания. Об этом лучше всего свидетельствует откровенное падение авторитета отечественной экономической науки, если о нем судить не по справкам, в обилии приносимым на защиту диссертаций. И только в этой ситуации можно предъявлять экономико-теоретическим исследованиям странное по своей сути (месть эмпириков?) требование специального показа своей прикладной значимости, т.е. некоего «практического применения» выводов теоретического характера. Думается, ни Маркс, ни Шумпетер, ни тем более Хайек не удовлетворили бы этому диковинному аттестационному императиву, что оставило бы их за пределами официальной экономической науки. И поделом - ишь, чего удумали: беззаботно порхать среди социальных абстракций; нет уж, брат, ты попробуй также попорхать среди блюмингов, нетелей и счет-фактуры - беззаботность, поди, сразу испарится.
Понимают ли экономисты экономику? Ответ на этот вопрос находится в прямой зависимости от ответа на другой, еще более важный вопрос: а можно ли вообще понять экономику? В онтологическом смысле экономика открыта для познания в той мере, в какой достигнутая ступень ее развития сформировала устойчивые внутриэкономические зависимости, корреляции, тенденции и законы. В гносеологическом же аспекте экономика открыта для познания в той мере, в какой познающий ее разум преодолевает идеологический догматизм. Другой вопрос из «субъективно-психологической» серии: могут ли экономисты спасти экономику? Думаю, нет - ни спасти экономику, ни помочь экономике экономисты не могут, хотя странная уверенность в этом и питает самомнение многих экономистов (а часть общества и вообще убеждена, что все экономические кризисы и прочие хозяйственные неудачи - от злокозненных экономистов). Объясняется это тем, что экономическое знание (даже если это экономико-теоретическое знание) остается самым незначимым фактором экономического развития. Классический пример со знаменитым сочинением Дж.М. Кейнса бессилен, так как вся антикризисная программа по выходу из Великой депрессии была принята задолго до выхода его книги. Более того, чем сильнее идеологически ангажирован тот или иной экономист, тем он опаснее для экономики; например доходящая до паранойи любовь к мнимым экономическим достижениям в прошлых периодах отечественной истории чревата истерическим неприятием объективных исторических перемен в современной реорганизации российского производства. Но экономисты продолжают тяготеть к гипертрофированию своей роли, формируя миф о своем статусе как неких «демиургов», хотя в реальности их роль в механизме движения экономики сродни роли астрономов в движении Солнечной системы [11].
Экономика - это вечно взрывоопасное состояние, это постоянно бурлящий «котел», крышку которого может снести в любой момент. Новые проблемы вытесняют старые, и - к непреходящей радости «предсказателей от экономики» - уже некогда и некому вспоминать те «рекомендации», которые еще вчера легкомысленно раздавались «экономистами». Кто сегодня, например, помнит пророков, совсем недавно рекомендовавших расставаться с долларом и евро, предвещая им неминуемый крах? Тех экономистов, кто выступал против вступления России во Всемирную торговую организацию, обрекая нашу экономику на заведомо невыгодные конкурентные позиции в глобальном масштабе? Тех, кто рекомендовал учиться у Северной Кореи, фальшиво изображая любовь к идеям «чучхе»?
Инертность экономического пространства преодолевается интенсивностью экономического времени. И тогда возникает законный вопрос: а нужны ли вообще экономисты экономике? Экономике, может, и не особенно, но обществу - обязательно: кто-то же должен специ- ально заниматься экономикой и толковать ее доверчивым «неэкономистам». Этим и порождается специфический рынок «экономических концепций» - на любой вкус и по любой цене, от откровенно обскурантистских - до предельно аферистических. У этого рынка - свои законы и факторы развития, своя мода и свои кумиры, а фарватер «мейнстрима» извилист и непредсказуем. Заключительный субъективный вопрос можно сформулировать так: не принимаем ли мы кризис экономического сознания за кризис экономики? Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что в отличие от экономики, хоть иногда вскарабкивающейся на вершину «пика», экономическая наука всегда находится в кризисе, и это - ее естественное состояние [11].
Некризисное состояние экономической науки означало бы, что она нашла ответы на все вопросы и что экономистам пора заняться иным делом. Сегодня в это трудно поверить, но еще не так давно экономисты принимали поздравления с успехами в их дисциплине. Эти успехи (или то, что они принимали за успехи) были как теоретическими, так и практическими, в результате чего якобы настал «золотой век» для этой профессии. В теоретической части экономисты полагали, что они урегулировали внутренние конфликты экономики. Так, в 2003 г. Р. Лукас (Чикагский университет) в обращении к Американской экономической ассоциации утверждал, что уже решена центральная проблема предотвращения депрессии. В 2004 г. Б. Бернанке (бывший профессор Принстонского университета, который является сегодня Председателем Федеральной резервной системы США) отметил значительное улучшение экономических показателей за последние два десятилетия, которые он частично отнес на счет более четкой формулировки экономической политики. А в 2008 г. в документе, озаглавленном «Состояние макроэкономики» О. Бланшар (Массачусетский технологический институт, позже - главный экономист Международного валютного фонда) заявил: национальная макроэкономика оптимальна, битвы прошлого закончились, настало широкое совпадение взглядов, и экономисты считают, что у них все под контролем. На деле все оказалась далеко не по О. Бланшару. Впрочем, даже когда физики (представители естественнонаучной дисциплины!) горделиво заявляли о завершенности физического знания, они всегда оказывались посрамленными.
Другое дело, что затяжной кризис в экономической теории опаснее скорее для нее самой, чем для экономики, даже не подозревающей о существовании экономистов, - подобно тому как атомы не подозревают о существовании физиков (а звезды - о существовании звездочетов).
Экономистом может быть только тот, кто влюблен в экономику - трудно заниматься экономикой, не любя ее, тем более когда собственные рассуждения ставятся выше объективной логики развития экономики. И не надо обижаться, если экономика отвергнет твою любовь, - по статистике, чаще всего на свете случается именно безответная любовь!
Заключение
Над экономистами-теоретиками подсмеиваются не только обыватели, но и экономисты-практики. Экономистами-практиками возмущаются граждане и подсмеиваются над ними экономисты-теоретики. И все же экономическая наука - самая точная и формальная из всех наук, причисляемых к общественным. Поэтому представители других наук презирают экономистов за то, что они обедняют в своих моделях сложную систему человеческих взаимоотношений, отношений человека с Природой и упрощают концепцию личности человека. Впрочем, если судить по меркам точных наук, «экономика только преодолевает первые ступени развития» (Гуриев, 2010), и физики, предсказывающие природные явления с точностью до десятого знака после запятой, не могут смотреть без улыбки на уровень точности экономических прогнозов. (Да здравствует нарождающаяся физическая экономика / эконофизика!)
Однако экономическая наука (экономическая теория) уже сформировалась со своим категориальным аппаратом и методологией проверки гипотез, хотя она все еще не может отвечать на самые важные стоящие перед ней вопросы.
Современной экономической науке известно об окружающем нас экономическом пространстве не так уж мало - особенно если учесть его огромную и постоянно растущую сложность. Экономические знания не только удовлетворяют любопытство экономистов-теоретиков, но и активно используют в экономической политике. Однако следует помнить, что простых ответов в экономической теории нет. У каждого предполагаемого решения есть свои достоинства и недостатки.
Список литературы Экономические возможности нашего времени
- Антонов А.Д., Корнеева В.Л. Экономическая теория как основа компетенций современного экономиста//Вест. Моск. у-та. Серия 6. Экономика. -2010. -№ 5.
- Грязнова А.Г. Проблема «вузовская экономическая теория и нужды хозяйственной практики» в контексте присоединения России к Болонскому соглашению//РЭЖ. -2004.
- Гукасьян Г. М. Экономическая теория: проблемы «новой экономики». -СПб.: Питер, 2003.
- Гуриев C. Мифы экономики: прогнозы экономической погоды. -М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010.
- Гусейнов Р.М., Карманова Н.Е. Как прогнозировать будущее: ЭКОномические «пророки» и их «пророчества»//ЭКО. -2010.
- Дракер П. Посткапиталистическое общество//Новая постиндустриальная волна на Западе. -М., 1999.
- Добряков М.С., Андрущак Г.В. Прием в российские вузы в 2010: увидеть, чтобы задуматься//Вопросы образования. -2010. -№ 4.
- Землянухина С.Г. Общее и специфическое в процессе развития экономической системы и экономической науки//Экономические институты современной России. -Кострома: Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009.
- Макаров В.Л. Контуры экономики знаний//Экономист. -2003. -№ 3.
- Малеева Т. Двери в средний класс закрыты? -URL: http://sr.fondedin.ru/new/admin/print
- Мамедов О.Ю. Экономика и экономисты (мучительные вопросы -смутные ответы)//Terraeconomicus. («Пространство экономики»). -2010. -Т. 8, № 2. -С. 5-9.
- Пороховский А.А. Вектор экономического развития. -М., 2002. -С. 44.
- Сидорова А.В. Экономическая теория -основа экономической стратегии государства//Экономист. -2010.
- Степин В.С. Избранные сочинения. -М.: Наука, 2010.
- Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы (Доклад Всемирного банка): пер. с англ. -М.: Изд-во «Весь мир», 2003.
- Экономика знаний/отв. ред. В.П. Колесов. -М.: ИНФРА-М, 2008.
- Экономика, основанная на знаниях/под общ. ред. А.Л. Гапоненко. -М., 2006.
- Юдин Б.Г. Человек в обществе знаний//Вестн. Моск. у-та. Серия 7. Философия. -2010. -№ 3.
- Философские основания развития науки в ХХI веке. -М.: Наука, 2010).
- Философские основания развития науки в ХХI веке. -М.: Наука, 2010).