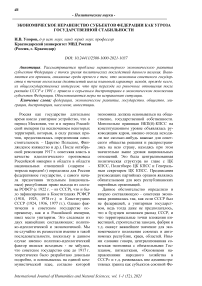Экономическое неравенство субъектов федерации как угроза государственной стабильности
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 1-1 (52), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема неравномерного экономического развития субъектов Федерации с точки зрения политических последствий данного явления. Выявляются его причины, связанные среди прочего с тем, что экономика советского государства в течение нескольких десятилетий имела плановый характер, исходя, прежде всего, из общегосударственных интересов, что при переходе на рыночные отношения после распада СССР в 1991 г. привело к серьезным диспропорциям в экономическом положении субъектов Федерации. Обосновываются меры по исправлению ситуации.
Федерация, экономическое развитие, государство, общество, миграция, диспропорция, население, инвестиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170190874
IDR: 170190874 | DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1037
Текст научной статьи Экономическое неравенство субъектов федерации как угроза государственной стабильности
Россия как государство длительное время имело унитарное устройство, что в период Московии, что и в период Российской империи (за исключением некоторых территорий, которым, в силу разных причин, предоставлялась определенная самостоятельность – Царство Польское, Финляндское княжество и др.). После октябрьской революции 1917 г. советская власть в качестве идеологического противовеса Российской империи в области в области национальных отношений («царизм -тюрьма народов!») определила для России федеративное государство, с самого начала предоставив титульным (национальным) республикам право выхода из состава РСФСР (с 1922 г. – из СССР), что и было зафиксировано в Конституциях РСФСР (1918, 1925, 1978 гг.) и Конституциях СССР (1924, 1936, 1977 гг.). Однако фактически в советском государстве по-прежнему, как и в Российской империи, имел место унитаризм. Это следовало из двух важнейших составляющих: политико-идеологической и экономической. Мы не случайно их разместили именно в такой последовательности, поскольку в данном случае именно политико-идеологический фактор являлся исходным - не забудем, что советское государство еще до 1917 г. теоретически было разработано довольно подробно, и основывалось на единой коммунистической идее, согласно которой экономика должна основываться на общественно, государственной собственности. Монопольно правящая ВКП(б)-КПСС на конституционном уровне объявлялась руководящим ядром, именно отсюда исходили все сколько-нибудь важные для советского общества решения и распространялись на всю страну, находясь при этом значительно выше уровня национальных отношений. Это была централизованная политическая структура во главе с ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС и Генеральным секретарем ЦК КПСС. Предписания руководящих партийных органов являлись обязательными для всех республиканских партийных организаций.
Данное обстоятельство определяло и вторую составляющую - советская экономика развивалась так, как если СССР был не федерацией, а унитарным государством, ведь тогда даже не предполагалось, что в будущем возможен распад СССР, и что территориальные точки вложения инвестиций, строительства заводов, фабрик и т.д. окажут важнейшее значение для экономического положения союзных и автономных республик, краев, областей. Иными словами говоря, централизованная советская экономика с обязательными Госпланом, пятилетками, «Основными направлениями народного хозяйства в СССР» и т.д. развивалась вне административных границ как субъектов союзной Фе- дерации, так и субъектов российской Федерации (РСФСР), и тем более, что в РСФСР таковыми субъектами были лишь автономные (национально-титульные) республики, в то время как края и области имели лишь статус местных Советов народных депутатов.
Исходя из этого, например, в СССР в 1925 г. был разработан проект освоения и развития Дальнего Востока на десять лет, в соответствии с которым планировалось капитальных вложений на сумму 245 млн руб., в том числе: «20% на работы по переоснащению промышленности, 20% – мероприятия на развитие сельского хозяйства и колонизацию, 60% – на развитие транспортной инфраструктуры, которая включала достройку Амурской железной дороги, прокладку шоссейных дорог, строительство портов» [1, с. 6]. Этот и другие проекты исходили, прежде всего, из интересов всей страны – СССР, а не из интересов какой-либо союзной республики, края или области; здесь действовала простая формула: интересы страны реализуются не иначе как в интересах конкретных территорий (конечно, были и самостоятельные проекты по развитию республик, краев, областей, но они имели вторичное значение, и не шли ни в какое сравнение по масштабам капитальных вложений). В том же Дальнем Востоке «объем капитальных работ за пятилетку 1933-1937 гг. составил 8 млрд руб., что привело почти к 2-х кратному увеличению объема валового производства региона. В этот же период были созданы условия для образования Тихоокеанского флота» [2, с. 114]. В годы перестройки Госпланом СССР в 1987 г. была разработана, а затем утверждена комплексная Программа освоения, в которой предусматривалось, в частности, возведение нескольких новых крупнейших объектов для расширения экономической основы этого региона и укрепления военной мощи государства (а это масштаб исключительно всего СССР, а не отдельных республик, краев, областей), в частности, предусматривалось «обеспечить такое развитие региона, которое бы опережало среднероссийское значение; достичь уровня социального развития, опережающего средний уровень по стране; максимально освоить природные богатства региона; построить перерабатывающие предприятия и предприятия, способные полностью удовлетворить энергетические потребности; увеличить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона» [3].
И хотя эта Программа так и не вышла на запланированные показатели ввиду распада СССР в 1991 г., в ней наглядно видна стратегическая линия экономического развития страны: акцент на общегосударственные интересы, исходя из чего в одних республиках (краях, областях) развивали, например, добывающую промышленность, в других – тяжелое машиностроение, в третьих – легкую промышленность, в четвертых – сельское хозяйство и т.д. Вся союзная экономика работала, разумеется, на общесоюзных экономических связях (поставщики сырья, материалов, оборудования – потребители производимой продукции). Свою роль имел и внешнеполитический фактор - так, поскольку союзные республики Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) являлись своеобразной «парадной» СССР со стороны Запада, то в эти республики вкладывали средств в развитие высокотехнологичной промышленности больше, чем в другие республики, соответственно уровень доходов на душу населения в этих союзных республиках был заметно выше, чем в других. Так, в литературе приводятся следующие данные: «в 1986 г. на одного жителя СССР приходилось 5875 руб. стоимости основных фондов. Разброс по этому показателю между республиками носил характер острейшей диспропорции: с одной стороны, в Эстонии – 8007 руб., в Латвии – 6923, Литве – 6111, с другой – в Белоруссии – 5500, Молдавии – 4500, Азербайджане – 3823, Таджикистане – 2291 руб. Еще более ощутимы были возраставшие различия между республиками по уровню заработной платы» [4, с. 39]. Приведем еще следующие цифры: «к 1990 г. доля населения, имеющая совокупный доход свыше 300 руб., в среднем по СССР составляла 8,8%, в Эстонии – 19,8%, в Латвии – 14,5%, в Литве – 13,8%. В этих же республиках уровень бедности был самым минимальным» [5].
Как видно, экономическое неравенство в условиях социалистической экономики имело место. Однако здесь следует подчеркнуть следующее важнейшее положение: это неравенство имело тенденцию к выравниванию. Например, исторически относительно низкий уровень жизни был в Туркменской ССР, но благодаря централизованной советской экономике в этой республике были сделаны огромные капвложения, построены цементный завод, ковровая фабрика, завод ЖБИ и др., по территории республики прошла основная часть известного Каракумского канала и т.д. И такое могло быть возможно только при единой плановой общесоюзной экономике.
Однако в 1991 г. СССР не стало. В постсоветской экономике России, резко переориентированной на рыночные отношения, достаточно долго наблюдалось кризисное состояние, которое некоторыми авторами расценивалось как «коллапс» и даже как «полный крах». И действительно, спад экономического развития был провальным. Так, в 1992-1999 г. объем ВВП (в физических показателях) снизился на 36%, объем инвестиций уменьшился в 4,8 раза [6, с. 48]. Резкий переход к полной либерализации цен с 1 января 1992 г. привел к галопирующей гиперинфляции и потери банковских вкладов большинства российских жителей, снижению их уровня жизни. На наш взгляд, наибольшие негативные последствия принимаемых тогда решений по управлению экономики имели место в сфере экономической географии, когда были одним махом разорваны многочисленные двух-трех-четырехзвенные хозяйственные связи предприятий, находившихся в самых разных концах советского государства и охватывавшие все без исключения бывшие союзные республики, края, области. Дальнейшее развитие экономических отношений уже не имело сколько-нибудь определенного регулируемого направления, правящая российская элита отдала экономику на откуп рынку, который должен был должен был, по ее ожиданиям, сбалансировать экономику и сделать ее эффективной наподобие европейских стран [7]. Но этого в короткие сроки (несколько лет) не могло произойти. Более того, в 1990-е гг., как отмечает Р.Х. Симонян, «в России был совершен коррупционный прорыв, и не был совершен прорыв модернизационный. Примитивизация экономики, отсутствие за все пореформенные годы каких-либо попыток модернизации производства не могли не привести к определенной ущербности общественной психологии … создала у части россиян ложное, но достаточно устойчивое самопредставление о роковой неспособности к модернизации, вечном отставании» [8, с. 126].
Экономическое неравенство субъектов Федерации (теперь, по Конституции России, таковыми являются также края и области) стало усиливаться. Так, удельный вес жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляет в Москве (на начало 2019 г.) – 8,3%, в то время как в Республике Тыва – 40,5%. Ненамного лучше ситуация в Ингушетии (32,0%), в Калмыкия (27,3%), Еврейской автономной области (24,9%) [9]. При этом есть ряд регионов, где ситуация получше, в частности, в ЯНАО (6,5%), Татарстане (7,4%), Санкт-Петербурге (7,5%), Московской области (7,9%), но в большинство субъектов федерации заметно отстают от Москвы. Аналогичное положение и по другим показателям. Так, оборот розничной торговли из расчета на одного жителя составляет в Москве – 381 104 рублей, в то время в Курганской области – 28 100 рублей [9]. А вот еще не менее впечатляющий факт: в настоящее время из 85 субъектов федерации только 13 являются регионами-донорами, то есть не получающими дотации из федерального бюджета [10], соответственно остальные 71 субъект федерации получают дотации, являющиеся, как известно, признаком несостоятельности получателей таких дотаций. Естественной реакцией жителей многих депрессивных районов стал их массовый отъезд в регионы с более теплым климатом и ближе к «цивилизации», на «материк», под которым жителями отдаленных районов нашей страны нередко понимаются центральноюжные регионы европейской части Рос- сии. В литературе отмечается, что «За годы так называемых реформ и разрушения, население Сибири сократилось с 22 до 19 миллионов, т.е. на 3 миллиона. Это колоссальные людские потери. Обезлюдивание сибирских территорий и миграция из соседних стран очень тревожное явление. Эти процессы ставят Россию на грань потрясений. Ведь 80 процентов ресурсов, которые потребляет европейская часть страны, поступает из-за Урала. И катастрофическая депопуляция Сибири – это угроза национальной безопасности» [11].
К этому нужно добавить, что следствием единой централизованной советской экономики в течение несколько десятилетий стали неравные стартовые позиции субъектов Федерации в начале 1990-х гг. Такое положение свидетельствует о серьезной разбалансированности федеративных отношений – пока с социальноэкономических позиций. Но если не принять срочных и решительных мер, то в дальнейшем может быть поставлена под угрозу вообще целостность России как государства. Мы полагаем абсолютно недопустимым, чтобы граждане одной страны (России) располагали правами и возможностями, различающимися в несколько (по некоторым параметрам – в десятки) раз – ведь тем самым грубейшим образом нарушается конституционный принцип равенства всех граждан России. В этой связи мы полагаем целесообразным, по крайней мере, предусмотреть единый общероссийский минимальный уровень заработной платы по каждой профессии, оплачиваемой из бюджета, который может изменяться только ввиду отдаленности и суровости климата (т.н. «северные»), при этом разного рода надбавки, премиальные и т.д. не должны превышать 20-25% базового оклада. Необходимо предусмотреть и другие меры, выравнивающие экономическое положение субъектов Федерации, а в их границах и муниципальных образований. Следует признать, что переход на рыночные отношения российской экономики не смог выправить экономическое неравенство субъектов Федерации, более того, прошедшие 30 лет показали, что цивилизованной рыночной экономики в России построить так и не удалось. В этой связи, как представляется, целесообразно создавать такие условия, чтобы крупнейшие заводы, фабрики, другие объекты экономической деятельности и в целом капитальные вложения распределялись более равномерно. Для этого требуется соответствующее изменение экономической стратегии, причем речь отнюдь не идет о возврате плановосоциалистической экономике, поскольку, как показывает история, политикоидеологический здесь не может принести успеха. Главный критерий – уровень жизни людей, создание дополнительных рабочих мест, мощное стимулирование для жителей отдаленных мест не уезжать оттуда. Безусловно, потребуется политическая воля правящей элиты, и прежде всего тех ее представителей, которых избирает российский народ.
Список литературы Экономическое неравенство субъектов федерации как угроза государственной стабильности
- Гамарник Я. Б. Советская колонизация ДВО // Экономическая жизнь Дальнего Востока. - 1925. - №9. - С. 3-8.
- Дубинина Н.И. О проектах Социально-экономического развития Дальнего Востока в 1920-30-е годы // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2011. - №4 (57). - С. 111-118.
- Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 19.08.1987 № 958 "Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил дальневосточного экономического региона. Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lawru.info/dok/ href='contents.asp?titleid=3385' title='Journal of Economic Perspectives'>1987/08/19/nll80742.htm/ (дата обращения: 02.01.2021 г.).
- Агафонов Н.Т., Литовка О.П., Исляев Р.А. Государственная стратегия регионального развития России: смена парадигмы территориальной организации общества. - СПб.: ЦСАОП, 1998. - 52 с.
- Гареева Н.Э., Шкель С.Н. Теория модернизации и социально-экономические факторы демократизации в контексте политических трансформаций на постсоветском пространстве. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gisap.eu/ru/teoriya-modernizatsii-i-sotsialno-ekonomicheskie-faktory-demokratizatsii-v-kontekste-politicheskikh (дата обращения: 06.01.2021 г.).