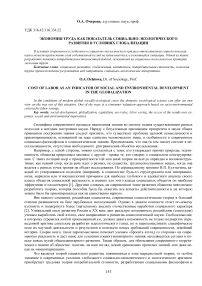Экономия труда как показатель социально-экологического развития в условиях глобализации
Автор: Очирова О.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.
Бесплатный доступ
В условиях современного глобального социально-экологического кризиса отечественная социологическая наука может предложить свой собственный взгляд на пути выхода из сложившейся ситуации. Одной из таких разработок является потребительностоимостный подход, основанный на социально-экологическом критерии экономии труда.
Социальное развитие, экономия труда, социально-экологические императивы
Короткий адрес: https://sciup.org/142142237
IDR: 142142237 | УДК: 316.42:316.334.22
Текст научной статьи Экономия труда как показатель социально-экологического развития в условиях глобализации
Специфика современного процесса накопления знания во многом задана существованием разных подходов к методам построения науки. Наряду с безусловным признанием приоритета в науке общих принципов построения знания следует признать, что существует проблема целевой осмысленности и ориентированности, основанной на идее единства человеческого мира, в особенности в современном социально-философском и социологическом знании. Предположим, что она (в том числе) состоит в несогласованности, отсутствии необходимого разграничения объектов исследования.
Например, с одной стороны, можно согласиться с теми, кто утверждает примат природы, подчиненность общества природным законам; с другой – правы те, кто говорит о социальном конструировании. С таких позиций спор о приоритетности той или иной теории не всегда оправдан и малоконструктивен, как всякий спор, когда речь идет о разных, по существу, трудносопоставимых вещах, когда она ведется с разных точек зрения на объект исследования. По справедливому мнению В.П. Култыгина, каждый из утвердившихся подходов (например, в социологии: будь-то структурализм или интеракционизм, марксизм или этносоциология) применим для наиболее глубокого и адекватного анализа своего класса объектов социальной реальности, и именно для этого класса социальных объектов он наиболее эффективен и плодотворен [1]. Другими словами, на современном этапе развития общества невозможно разработать теорию, которая способна была бы охватить все аспекты действительности и на которую можно было бы ориентироваться как на единственно верную.
Вне всякого сомнения, российская социология, современные социологические теории в большей степени развиваются на базе зарубежных исследований. Однако в данном контексте стоит по-новому взглянуть и подвергнуть более тщательному анализу отечественные наработки социального характера [2]. Уникальный опыт развития России в ХХ веке дает реальную возможность российским (советским) ученым выработать свой взгляд, свое направление в развитии социологической науки. Свободомыслие, к которому стремится любой просвещенный ум, должно давать возможность не только подвергать справедливой критике советские разработки идеологического толка, но и переосмысливать специфическое поле их научной деятельности и результатов в контексте новых требований современности, новейшей истории. Скорее всего, такое переосмысление поможет ученым «бросить взгляд со стороны» на современную реальность и даст шанс для усиления социогуманитарного знания, находящегося сегодня в поиске новых путей общепланетарного развития. Таким образом, для обновления современного теоретического знания об обществе полезен, на наш взгляд, некий «ренессанс» прошлых знаний, или даже некая их «инвентаризация».
Что касается теорий социального развития, появившихся в лоне марксистской теории, то особое значение в современных условиях глобального социально-экономического и экологического кризисов приобретает трудовая теория потребительной стоимости, разработанная социальными философами и социологами Санкт-Петербургской школы. Она привлекает наше внимание к себе тем, что вносит весомый вклад в разработку теории, интегрирующей экономику и социологию. К ее разработчикам можно отнести прежде всего В.Я. Ельмеева, В.Г. Долгова, Н.Ф. Дюдяева, А.Н. Сошнева и многих других их последователей и учеников.
Считаем необходимым отметить, что предложенное в рамках потребительностоимостной теории социологическое осмысление природы стоимости и заключенного в ней труда оказалось в современных, прежде всего экологических и демографических, условиях как никогда актуальным. Именно поэтому она может стать объектом более тщательного социологического исследования и получить дальнейшее свое развитие.
В условиях современного глобального экономического кризиса всё явственнее становится тот факт, что капитализм как общественный строй сопровождается постоянными кризисами, основанными на игнорировании социальной и экологической составляющих действительности. Главной целью частной собственности на средства производства становится тотальный (глобальный) контроль за прибылью, а нормой становятся неравномерность в распределении средств и прибыли и, как следствие, увеличение разрыва между бедностью и богатством, социальная несправедливость, истощение ресурсов, конфликты в различных сферах по поводу перераспределения средств.
Если общественный строй действительно играет одну из решающих ролей в социальном развитии, то корень вопроса можно искать в самой сущности капитализма и его ориентации на прибыль. Эта мысль так или иначе прослеживается в высказываниях многих современных зарубежных и отечественных исследователей, занимающихся взаимосвязями капиталистической системы и глобализации.
Профессор Сербской академии образования (г. Белград) Д.Ж. Маркович проанализировал работы зарубежных коллег по поводу процессов глобализации. Он выделил следующие аспекты: «Глобализация есть процесс расширения границ экономической мощи посредством освоения сфер приложения капитала (источников сырья и рынков сбыта) мирным путем (в отличие от предыдущих периодов). Поскольку капитал, стесненный границами собственной территории и не имеющий возможности развиваться вне ее границ, задыхается и умирает, глобализация представляет собой способ его расширения и реализации»; «Идея глобализации возникла в развитых капиталистических (западных) государствах, добивающихся господствующего положения на планете и стремящихся поставить все человечество на службу собственных интересов, а отнюдь не интересов абстрактного человечества»; «По сути, глобальная экономика - не что иное, как освоение планеты транснациональными корпорациями развитых капиталистических государств, преследующих свои интересы и доминирующих над национальными экономиками» [3].
Безусловно, международными организациями в конце ХХ - начале XXI в предпринимаются беспрецедентные попытки преодолеть или смягчить эти процессы. Известна решимость ООН освободить от нужды более одного миллиарда человек, живущих в крайней нищете, добиться равноправной, предсказуемой, недискриминационной системы торговли и финансов. В Декларации организации выдвигаются конкретные цели: например, сократить вдвое к 2015 г. число людей с доходами менее одного доллара в день и тех, кто не имеет доступа к безопасной питьевой воде; к тому же сроку охватить всех детей начальным образованием. К 2020 г. ставится задача добиться «значительного улучшения» условий жизни, по крайней мере, 100 млн. обитателей трущоб, и т.д. [4]. Однако методы борьбы с данным положением дел предлагаются те же самые, которые, по сути, и явились причиной современного кризиса в социальном развитии.
Ф.Н. Юрлов напишет об этом: «Все это, несомненно, прекрасные и благородные, хотя и достаточно ограниченные задачи и цели. Но будут ли они выполнены - вот в чем вопрос» [Там же]. И сегодня опасения ученого воплотились в реальность. Все задачи, поставленные в конце XX в. ООН, попросту не могут быть решены, потому что на повестке дня в связи с глубоко переживаемым очередным экономическим кризисом появились другие.
Нам понятно то, что имел в виду Ф.Н. Юрлов под «достаточно ограниченными задачами и целями» ООН. Поставленные международной организацией задачи сводятся к политике «латания дыр», а не к коренному изменению самой закономерности увеличения бедности на планете. Современное общество, по существу, верит в то, что из сложившихся непростых условий можно выйти, опираясь на ту же систему накопления капитала. «Наша техническая цивилизация предрасположена и стремится к абсолютизации и созданию мифа об эффективности и максимизации прибыли. Как будто нам судьбой предназначено преуспевать и состязаться, часто не зная ни зачем, ни почему» [Там же].
Известным фактом является то, что еще в 1992 г. на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро были признаны отрицательные последствия существующей модели развития, которая предполагает систему производства во имя прибыли. Тем не менее, несмотря на признание отрицательного влияния сущест- вующей модели и желание поднять ведущее значение социального развития, все же такое развитие предполагается осуществлять на частнособственнической основе. Это отражено и в концепции устойчивого развития, которая, по сути, предлагает лишь умерить свои «аппетиты» частному капиталу, вести политику сдерживания темпов накопления. В результате, оставаясь на исходных позициях, эта концепция изыскивает, в конечном итоге, статичное, стационарное, а не динамическое протекание экономических процессов. В целом на противоречивый характер подобных способов корректирования развития указывается в следующем тезисе: «Научная теория должна строиться на наблюдениях реальности, в отличие от сегодняшней стандартной теории, руководствующейся случайно взятыми положениями и пытающейся заставить реальность им подчиниться» [5].
С позиций потребительностоимостной теории общество и человек достигают превосходства результатов над предпосылками посредством деятельности (труда) и тем самым делают возможным развитие. Одним из основоположников теории В.Я. Ельмеевым главная роль отводится специфике человеческой познавательной деятельности, благодаря которой люди превосходят существующую действительность, наличную ситуацию вначале идеально - в виде создаваемого образа будущего результата и цели, мобилизующей волю человека на ее достижение.
По своей сути теория потребительной стоимости является теорией изменения, теорией развития. Ее базисная предпосылка есть принцип превосхождения результатов над затратами. Данная теория имеет свое развитие при следующем условии: настоящее превосходит прошлое, а будущее превзойдет настоящее. Например, критикуя «постмодерн», В.Я. Ельмеев пишет, что «в нем ничего нового не допускается, оно представляется тождественным как прошлому, так и будущему» [6]. Такая позиция модернистского способа мышления объясняется тем, что его носителями на первый план выдвигается стоимостный принцип тождественности, в результате чего обществоведы все больше становятся похожими на математиков, которые без знака равенства не решают ни одной задачи. Другими словами, силы, которые содействуют росту населения и капитала, должны уравновеситься с силами, содействующими их уменьшению. Социальные процессы и явления также оцениваются по принципу их тождественности, равновесия. Согласно этой логике зло должно быть, по крайней мере, уравновешено с добром, преступление - с наказанием и т.п. В результате фундаментальное свойство структурной организации социума как системы видят в отношениях «позиционно-компенсационной эквивалентности ее элементов, проявляющееся в различных формах пропорциональности (равенства, подобия, "зеркальности" и т.д.)». Нарушение симметрии, считают сторонники идеи равновесности, приводит к разрушению системы, когда она теряет свойства целого, в то время как симметричные соотношения элементов социальной системы (структуры), наоборот, обеспечивают целостность общества, его равновесность, устойчивость, «воспроизводимость» [7].
Точно так же существование стоимостного принципа в современной модели развития объясняется стремлением получить результаты в строгом соответствии с затратами. Непригодность такого положения дел для экономического и социального развития заключается в том , что стоимость, согласно ее закону, не может превосходить затраты на ее получение, и следовательно, не может удовлетворять основному условию развития - возникновению нового и превосхождению им старого. На самом деле потребительная стоимость, в частности производительность труда, технический прогресс, природные силы, создает основу для принципа неравенства затрат и результатов, неэквивалентности, возникающей не из стоимости, а из потребительной стоимости обмениваемой на капитал рабочей силы.
Таким образом, теоретики потребительной стоимости подошли к пониманию неустойчивости природных процессов и связанных с этим неравновесных взаимоотношений человека с природой, прежде всего в экономической деятельности. Современное общество пытается регулировать движение со-циоприродных сил посредством измерений, поскольку такой учет дает возможность подвести их под некий баланс. Однако именно несбалансированность и есть, по всей видимости, условие, фактор, возможность социального развития, изменения.
Итак, любое предприятие в своей деятельности стремится балансировать. Для нас очевидно то, что этого можно соответствующим образом достигнуть лишь на уровне цифр . Такой подход лишен смысла социального развития: во-первых, с точки зрения равновесности затрачиваемых условий (ресурсов) и получаемых результатов и, во-вторых, с точки зрения невозможности учета в данных условиях социального эффекта. Нельзя отрицать того, что и социальные результаты пытаются учитывать, однако в рамках существующей системы равновесности они не смогут стать центральными задачами в производстве.
Безусловно, это обстоятельство объясняется тем фактом, что на современном этапе развития общества мы полностью зависим от производственных возможностей обеспечивать нас прежде всего материальными благами. Однако общие тенденции развития производственной деятельности, обусловленные научно-техническими достижениями и стремлением человека к совершенствованию своей дея- тельности, показывают необходимость отказа от такого учета, который, по существу, ведет к нейтрализации социального эффекта и, следовательно, его игнорирования.
В данном контексте теория потребительной стоимости предлагает введение такого важного показателя, а в современной интерпретации - индикатора социальной эффективности, как экономия труда в качестве альтернативы затратам труда. Основой перехода должна явиться переоценка ценностей - промышленное производство не благо, а необходимость, которую нужно преодолеть, минимизировать, найти другие, более социально-экологические, способы для материального производства.
Для нас является вполне понятным влияние в качестве предпосылок или условий человеческой деятельности и других факторов производства, кроме труда, например частнособственнический интерес. Но как же быть тогда с законами общественного устройства и бесконечной сложностью социальных взаимосвязей? Или с законами природы? Где же та «золотая середина» между частной и общественной собственностью на средства производства?
Учитывая все эти обстоятельства, остановимся на социологических аспектах исследования, а именно на роли человека как активного начала, как предпосылки и в то же время результата социальноэкономического развития. Необходимо учитывать роль самой деятельности не только в превращении условий в результат, но и в главном - в преодолении их тождества, «эквивалентности», в создании результата, превосходящего условия. Именно посредством труда и действия человек способен прибавлять к исходным обстоятельствам новое в получаемых результатах. Необходимо подчеркнуть, что именно условия (ресурсы) выступают детерминантой направленности деятельности, их следует ставить впереди, а не позади этой направленности. Тем более их нельзя отождествлять с порядком, относить на его сторону, а не на сторону движения [8].
Основной ценностью теории потребительной стоимости для исследуемых нами социальноэкономических процессов в современном обществе является учет ею социально-экологических факторов, содержащихся в экономии труда .
Как пишет Н.А.Кармаев, «потребительная стоимость измеряется трудом сэкономленным, высвобожденным, в отличие от стоимости, которая, как известно, определяется количеством труда, затраченного на производство товара, и измеряется социально необходимым рабочим временем. Тем самым потребительную стоимость можно соизмерить лишь через экономию живого труда. И если закон потребительной стоимости предполагает, что совокупный общественный труд распределяется в зависимости от различных потребностей общества в тех или иных предметах или услугах, то закон стоимости регулирует обмен товаров в соответствии с их общественной стоимостью, т.е. количеством затраченного на их производство общественно необходимого труда»[9]. Автор делает вывод, что в условиях экологического кризиса стоимостная экономическая парадигма явно ущербна, а соответственно принимаемые меры в рамках данной системы, например повышение налогов на производство экологически вредных товаров, вряд ли приведут к желаемым результатам. Кроме того, «вызываемое научно-техническим прогрессом все более растущее несоответствие между рабочим временем и производимым в его рамках действи -тельным богатством (массой потребительных стоимостей) находится в явном противоречии с законом стоимости, требующим оценивать богатства в строгом соответствии» [10].
При новом подходе, по мнению В.П. Казначеева и Е.А. Спирина, меняется соотношение между основными структурными элементами общественного производства, поскольку закон потребительной стоимости регулирует производство так, что мера удовлетворения потребностей не определяется трудоемкостью производства соответствующих продуктов. Напротив, полезный эффект последних диктует объем трудовых затрат на их производство [11].
Главные социально-экологические моменты концепции потребительной стоимости состоят в том, что необходимость расширения или сокращения производства должна быть связана с потребностями развития человека. Для того чтобы потребительные стоимости превратились в ведущее начало для определения размеров производства, необходимо изменить вектор производственного развития: с накопления частного капитала переориентировать на создание общественного капитала. Современные мощные механизмы социального контроля способны направить действие производителей на грамотное определение размеров их деятельности посредством потребительных стоимостей. Безусловно, ориентация только на получение прибыли приносит значительные плоды для общественного развития, но издержки слишком ощутимы, поскольку заключаются в расточительном использовании природных и человеческих ресурсов. В том случае, если ставится конкретная задача преодоления социально-экологического кризиса, то необходимо наконец-то вывести промышленное производство на конечную цель - на воспроизводство человека и общества . Следует отметить тот факт, что современному частному капиталу становится выгодно поддерживать общественное развитие в усложняющихся демографических, политических, конфессиональных и других условиях. Это позволяет нам сделать вывод о том, что глобали- зация имеет двойственную природу. Пытаясь заставить развиваться общество по своим правилам, частный капитал сам мимикрирует и постепенно становится частью общественного. Другими словами, частный капитал уже не может противопоставляться общественному как самостоятельная единица, как не может быть и системой, оторванной от социальных задач современности.
В данной статье проанализирован один из возможных способов разрешения современных глобальных противоречий, не вписывающийся в традиционное русло рыночной экономики и именно потому позволяющий взглянуть на проблему развития в более широком контексте, а следовательно, максимально объективировать ее в плане разрешимости. На современном этапе независимо от подходов, взглядов, точек зрения перед всей социогуманитарной наукой стоит непростая задача выявления наиболее эффективных механизмов общественного развития в условиях, продиктованных экологическими императивами.
Статья опубликована при финансовой поддержке РГНФ, грант № 09-03-00225а.