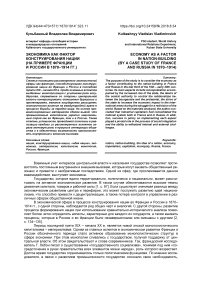Экономика как фактор конструирования нации (на примере Франции и России в 1870-1914 гг.)
Автор: Кульбашный Владислав Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению экономической сферы как фактора, способствующего конструированию нации во Франции и России в последней трети XIX - начале ХХ в. Среди основных аспектов выделены: монополизация с усилением роли государства, стремление со стороны центральной власти контролировать отношения буржуазии и пролетариата, желание государства расширять экономическое влияние на международной арене в процессе борьбы за передел мира. На основе проанализированных материалов сделан вывод, что промышленный капитализм укрепил национальный строй как во Франции, так и в России. Также степень успешности проводимой политики в реализации каждого из рассмотренных аспектов играла значимую роль в процессе интеграции общества и в обеспечении возможности противостоять внутренним и внешним вызовам.
Нация, конструирование нации, "идея нации", экономика, империализм, капитализм, монополия, Россия, франция
Короткий адрес: https://sciup.org/149133775
IDR: 149133775 | УДК: 94(44+470+571)“1870/1914”:323.11 | DOI: 10.24158/fik.2018.8.34
Текст научной статьи Экономика как фактор конструирования нации (на примере Франции и России в 1870-1914 гг.)
Кульбашный Владислав Владимирович
Взаимный учет интересов центральной власти и населения государства позволяет противостоять постоянным внутренним и внешним вызовам, которые могут вызвать общественный резонанс и привести к необратимым последствиям. Одной из сфер, где прослеживается данное взаимодействие, выступает экономика.
Государство, которое едино территориально, политически и национально, может рассчитывать на активное экономическое развитие. В таком случае обеспечиваются высокие темпы движения капитала, товаров и рабочей силы [1, с. 97]. Если существует значимая разница между экономическим развитием центра и периферии, это может послужить развитию идей национализма, что способно привести к децентрализации, а также потере контроля в управлении в различных сферах общественной жизни.
В экономической сфере в процессе конструирования нации во Франции и России в 1870– 1914 гг., с одной стороны, наблюдается ряд общих черт и аналогий. С другой стороны, развитие процесса формирования нации при использовании сравнительно-исторического анализа позволяет более четко определить аспекты, характерные для каждого из государств, а также выявить процессы, которые в России и во Франции были незавершенными или смешаны с другими [2, с. 134–135].
Период последней трети XIX – начала ХХ в. является новой эпохой монополистического капитализма – империализма. Одним из главных аспектов в экономическом развитии Франции и России обозначенного периода стало активное образование монополистических структур в сфере экономики. При этом монополии сливались с государством, получая поддержку от центральной власти. Об этом свидетельствуют и слова современников. Так, французский исследователь Г. Лебон писал о существовании «государственного социализма», понимая под ним «сосредоточение в руках правительства всех элементов жизни народа», роль которого возрастает. Долгое время государство ограничивалось только политическими функциями. По мнению исследователя, в связи с развитием промышленности государство осознало свою необходимость, чтобы восполнить недостаток частной инициативы. Оно стало вмешиваться во многие отрасли промышленности. Государство взяло на себя управление самыми важными отраслями на монопольной основе [3, с. 147–148]. Стремление подчинить все отрасли промышленности исходит не только от самого государства, но и от «всех партий», «всей расы» [4, с. 150].
Российский историк и политик П.Н. Милюков отмечал, что при рассмотрении культуры какого-либо государства Западной Европы происходит переход от экономического строя через социальную структуру к государственной организации. В России, наоборот, государство имеет огромное влияние на экономическую и общественную организацию, что указывает на то, что «исторический процесс шел как раз обратным порядком» [5, с. 113–114]. Рассматривая экономическую сферу на пути развития государства, П.Н. Милюков стремился подтвердить главенствующую роль, которую сыграло государство в экономическом развитии страны [6, с. 153].
Во Франции процесс концентрации производства начинается в 1870–1880-е гг. Наиболее распространенными формами объединений в данный период становятся картели и синдикаты. В металлургической сфере была образована монополия «Комите де форж» (Comité des forges). Она включала в себя около 250 металлургических и машиностроительных заводов, также ею контролировалось около 75 % производства стали и чугуна во Франции. В конце XIX в. был основан синдикат «Шнейдер – Крезо» (Schneider – Le Creusot), который охватил предприятия военнопромышленного комплекса.
В Российской империи первые монополии образовываются с 1880-х гг. Как и во Франции, преобладающими формами стали картели и синдикаты. Одним из крупнейших стал синдикат «Продамет», который интегрировал на юге России 12 металлургических заводов, сосредоточив в своих руках более 35 % продажи черных металлов. Синдикат «Продуголь» занимался продажей угля на территории Российской империи, занимая подавляющую часть рынка. «Продвагон» сконцентрировал в своих руках более 95 % заказов на вагоны.
И государство, и монополии преследовали взаимную выгоду. Государство развивало свою экономику, пополняло казну, а также имело влияние на монополии. Появление и процветание монополий зависело от благосклонности центральной власти, олицетворявшей государство. Именно государство выступало главным предпринимателем, которое, действуя как банкир, торговец и комиссионер, стремилось достичь государственных целей [7, с. 170].
Но если во Франции тяжелая промышленность медленно вырастала из более мелких организаций, то в Российской империи переход промышленности под контроль государства осуществлялся стремительно. Отсюда высокая ориентированность российской промышленности на государство, что позволяло центральной власти в большей степени, нежели во Франции, рассчитывать на промышленников в процессе конструирования нации.
Еще одной важной силой, помогавшей государству интегрировать общество через сферу экономики, являлись буржуазия и пролетариат.
В рассматриваемый период центральная власть как во Франции, так и в России испытывала сильное давление со стороны предпринимателей. Но в то же время доходы со стороны самого государства зависели от принимаемых им же решений, т. е. государство не могло являться свободным игроком на экономической арене [8, с. 84].
Политика таможенного регулирования, основанная на принятии протекционистских мер, в 1870–1914 гг. была вызвана взаимной зависимостью государства и представителей буржуазии.
Во Франции в 1892 г. по инициативе Ф.-Ж. Мелена был принят протекционистский тариф, который стал завершением политики свободной торговли. Промышленники и земледельцы стремились укрепить свои позиции на внутреннем рынке, стабилизировать цены и тем самым поддерживать прибыльность своих предприятий перед угрозой внешней конкуренции. Также таможенный тариф Ф.-Ж. Мелена был принят с целью объединить промышленную буржуазию с крупными землевладельцами в консервативном союзе для защиты Третьей республики от нападений недовольных, особенно рабочего класса [9, p. 230–231]. В Российской империи правительство, например, с 1 июня 1884 г. повысило ввозные цены на чугун, а с июля 1885 г. на большинство ввозимых в страну товаров пошлины были увеличены на 20 % [10, с. 88]. Таким образом был положен конец экономическому либерализму. К 1914 г. средние значения таможенных тарифов во Франции были равны 20 %, а в Российской империи – 38 % [11, с. 58].
Немаловажную роль в интеграции общества в сфере экономики сыграло ужесточение национальной политики, прежде всего в отношении распространения государственного языка. Этому способствовали два социальных института – начальная школа и армия. Овладевая в них официальным языком, население окраин получало преимущество на развивающемся рынке труда. В условиях поиска работы не было ничего плохого в том, что изучался более распространенный язык [12, с. 183]. Если же человек являлся носителем только одного языка, то за пределами своих родных земель он испытывал огромные сложности.
Представители третьего сословия Антверпена или Гента изучали французский язык, а не фламандский. Тем самым они получали возможность успешно трудоустроиться в Париже или ином крупном французском городе. Польские промышленники, которые чувствовали себя больше немцами или евреями, а не поляками, понимали, что их прибыль будет гораздо выше, если они выйдут на всероссийский рынок, где получат дополнительные возможности для сбыта своей продукции [13, с. 183–184].
Значимую роль в процессе конструирования нации через экономическую сферу также играла внешняя политика.
Колониальная политика Франции в 1870–1914 гг. достигла своего пика. Радикальные изменения в системе государственной власти (установление Третьей республики), формирование новой политической элиты общества (приход к власти умеренных республиканцев) актуализировали активность по расширению колониальных владений [14, с. 65]. Кроме того, важным фактором стало поражение во Франко-прусской войне, в результате чего правительство стремилось всеми силами вернуть величие Франции и французской армии на международной арене и в глазах граждан страны. Колониальная экспансия выступила в роли альтернативы реванша за сокрушительное поражение, в результате чего парламент поддерживал усилия членов правительства, направленных на новые колониальные захваты [15, с. 78].
Важным вдохновителем и проповедником колонизации для Франции стал П. Леруа-Болье, который работой «Колонизация в XIX веке» пробудил дебаты как среди политиков, так и среди экономистов [16, p. 51–52]. Он отметил, что большая польза колоний заключается в расширении, стимулировании и поддержании своей промышленности, а также в предоставлении возможности промышленникам увеличивать свою прибыль, а рабочим – повышать заработную плату [17, p. 542].
Также одним из идеологов расширения территорий во Франции является Ж. Ферри, который отмечал, что «колониальная политика является дочерью промышленной политики» [18, p. 52]. По его мнению, в колониальной политике Франции заложены «честь, интересы, репутация и будущее Франции» [19, p. 178]. В своем выступлении 28 июля 1885 г. он подчеркнул, что колониальная политика Франции является системой, которая была задумана, определена и ограничена, опираясь на три базисных фактора. Первый – экономический фактор, по его мнению, проявляется при избытке капитала, излишках продукции и перенаселении [20, p. 194]. Второй – цивилизационный или гуманитарный, в соответствии с ним «высшие» расы должны цивилизовать «низшие». Это их долг [21, p. 209–210]. Третий – политический, где суждения о том, что Франция должна быть лишь континентальной державой, неверны, так как это лишает страну могущества и создает угрозу для ее статуса великой державы [22, p. 217].
Колониальная политика Франции в 1870–1914 гг. имела далеко не только сторонников, зачастую против высказывались политики и экономисты, отмечая ее невыгодность [23, p. 51–52]. Но в рассматриваемый период либеральная мысль во Франции так и не смогла отстоять идею о несостоятельности активной колониальной политики. Слишком весом был тезис Ж. Ферри о том, что колониальная экспансия характерна для многих. Если Франция уйдет, то ее место займут другие, как когда-то произошло с первыми колониальными державами [24, p. 218].
Россия, не являясь колониальной державой, но участвуя в процессе вступления мировых держав в империалистическую эпоху, ведя поиск рынка сбыта товаров после экономического подъема, связанного с либеральными реформами Александра II, также активно включалась в борьбу за сферы влияния на Балканах и в Азии.
В частности, важными для России представлялись ее позиции на Дальнем Востоке. Для более активного освоения территорий и защиты уже имеющихся позиций в 1891 г. началось строительство Транссибирской магистрали, а в 1896 г. по договору с Китаем была получена концессия на строительство железной дороги от Читы до Владивостока через территорию Северной Маньчжурии (КВЖД). В 1898 г. с правительством Китая были согласованы аренда Ляодунского полуострова сроком на 25 лет, создание военно-морской базы в Порт-Артуре [25]. В 1900 г. Россия вместе с другими державами, имевшими притязания на территорию Китая, принимала участие в подавлении Ихэтуаньского восстания. В окружении российского императора Николая II появилась группа людей, получившая название «безобразовская клика» по имени офицера А.М. Безобразова, которая выступала за активное экономическое и политическое проникновение России в Маньчжурию и Северную Корею. Кроме того, данная мысль была близка и министру внутренних дел В.К. Плеве.
Данные мероприятия усиливали позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но подталкивали к конфронтации с Японией, в которой после революции Мэйдзи 1868 г. активно развивались капиталистические отношения и также велся поиск сфер влияния.
Точка зрения С.Ю. Витте, на тот момент являвшегося министром финансов, и министра иностранных дел В.Н. Ламздорфа о проведении более сдержанной политики на Дальнем Востоке с учетом интересов Японии не была поддержана российским монархом. С.Ю. Витте отмечал в своих мемуарах: «Я убеждал Его Величество, что нам не следует вмешиваться в это дело, потому что мы, собственно в Пекине, да и вообще в Китае – за исключением Маньчжурии – не имеем никаких серьезных интересов, что нам нужно защищать наше положение в Маньчжурии, не раздражая китайцев и Китай» [26, с. 145]. В итоге столкновение экономических интересов России и Японии привело к военным действиям 1904–1905 гг.
Но агрессивная внешняя политика Франции и России ставила своей целью не только поиски рынков сбыта продукции и ресурсов, но и интеграцию, сплочение общества на фоне побед, представив центральную власть в лучшем свете. Неудачи, как, например, поражение России в войне с Японией, способствовали усугублению кризисных явлений и созданию революционных ситуаций.
Таким образом, в рассматриваемый период во Франции и Российской империи промышленный капитализм укрепил национальный строй. Государство через монополии могло контролировать и направлять свое население. Также капитализм собирал родственные устные языки в одно целое, способствовал расширению единого языка, используя рынок. Промышленникам, средним и мелким производителям удавалось легче проникать на новые рынки внутри страны, зная общепринятый язык. Успехи в борьбе за экономические сферы влияния на международной арене способствовали подъему промышленного производства, росту благосостояния промышленников и предоставлению возможности улучшения материального состояния для иных слоев населения. В итоге экономика стала составляющей нации, конструируемой государством, а «идея нации» сыграла важную роль в развитии капиталистической экономики.
Ссылки:
№ 6 (38). С. 133–153.
Список литературы Экономика как фактор конструирования нации (на примере Франции и России в 1870-1914 гг.)
- Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. 464 с.
- Липкин А.И. Россия между нацией и субцивилизацией. Сравнение с Францией // Вестник российской нации. 2014. № 6 (38). С. 133-153.
- Лебон Г. Психология социализма. СПб., 1908. 376 с.
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб., 1896. 228 с.
- Эммонс Т. Проблема «особого пути» России в позднеимперской историографии // «Особый путь»: от идеологии к методу. М., 2018. С. 150-188.
- Беляев С.Г. Русское предпринимательство в Китае в конце XIX - начале ХХ века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2006. Вып. 1. С. 170-183.
- Сорокин А.И. Протекционизм и промышленное развитие России в XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2009. Вып. 4. С. 83-93.
- Smith M.S. The Méline Tariff as Social Protection: Rhetoric or Reality? // International Review of Social History. 1992. Vol. 37, iss. 2. P. 230-242.
- DOI: 10.1017/s0020859000111149
- Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. Ростов н/Д., 1999. 512 с.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 307 с.
- Буйко О.Л. Франция: колониальная политика и парламент. 1880-е годы // Новая и новейшая история. 2008. № 3. С. 65-78.
- Clément A. L'analyse économique de la question coloniale en France // Revue d'économie politique. 2013. Vol. 123, no. 1. P. 51-82.
- DOI: 10.3917/redp.231.0051
- Leroy-Beaulieu P. De la colonisation chez les peoples modernes. Paris, 1882. 639 p.
- Robiquet P. Discours et Opinions de Jules Ferry. T. 5. Paris, 1897. 567 p.
- Русско-китайская конвенция 1898 г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. М., 1952. С. 309-312.
- Витте С.Ю. Воспоминания: царствование Николая II. 2-е изд. Т. 1. Л., 1924. 471 с.