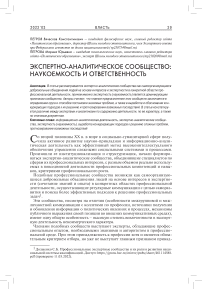Экспертно-аналитическое сообщество: наукоемкость и ответственность
Автор: Петров Вячеслав Константинович, Петрова Марина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Круглый стол
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются экспертно-аналитические сообщества как самоорганизующиеся добровольные объединения людей на основе интересов и экспертности в конкретной области профессиональной деятельности, причем именно экспертность (наукоемкость) является доминирующим признаком сообщества. Авторы считают, что главное предназначение этих сообществ заключается в определении круга и способов постановки значимых проблем, а также в выработке и обосновании конкурирующих подходов к их решению и прогнозировании возможных последствий. В статье констатируется различие между экспертами и аналитиками по содержанию деятельности, по ее характеру, а также по итоговым документам.
Информационно-аналитическая деятельность, экспертно-аналитические сообщества, экспертность (наукоемкость), выработка конкурирующих подходов к решению сложных проблем, прогнозирование возможных последствий
Короткий адрес: https://sciup.org/170194566
IDR: 170194566 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9041
Текст научной статьи Экспертно-аналитическое сообщество: наукоемкость и ответственность
С о второй половины ХХ в. в мире в социально-гуманитарной сфере получила активное развитие научно-прикладная и информационно-аналитическая деятельность как эффективный метод высокоинтеллектуального обеспечения управления сложными социальными системами и процессами. Произошли ее институционализация и структуризация, начали формироваться экспертно-аналитические сообщества, объединившие специалистов по сферам их профессиональных интересов, с разным объемом реально используемых в повседневной деятельности профессиональных компетенций и навыков, критериями профессионального роста.
Подобные профессиональные сообщества возникли как самоорганизующиеся добровольные объединения людей на основе интересов и экспертно-сти (сочетание знаний и опыта) в конкретных областях профессиональной деятельности, осуществляющие регулярные коммуникации с целью саморазвития и поиска более эффективных подходов к решению профессиональных задач1.
Эти сообщества, несмотря на отличия (особенности межгрупповой и межличностной коммуникации с коллегами по профессии, источники получения и обновления информации о политических явлениях и процессах, механизмы публичного выражения своей позиции во внешних коммуникативных средах), имеют одну общую особенность – высокую степень вовлеченности в экспертную деятельность некоммерческого характера.
Членами подобных сообществ выступают эксперты, обладающие профессиональным опытом, необходимыми знаниями и авторитетом в профессиональной среде. При этом принадлежность к профессии хотя и является обязательным критерием отбора, но уже не выступает главным признаком принад- лежности к сообществу. Доминирующим стала экспертность (наукоемкость) в какой-либо профессиональной области [Мартьянова 2013].
Возникают вопросы: как, зачем и почему люди, считающие себя профессионалами, объединяют свои усилия в рамках экспертно-аналитического сообщества, и в каких случаях опыт такого ассоциирования оказывается успешным? что заставляет их взаимодействовать внутри сообщества, организовывать взаимодействие между подобными сообществами?
Ответ заключается в системной природе самой социальной организации. Люди объединяются в стремлении достигнуть своих целей через реализацию целей созданной ими организации. Собственные цели могут быть разными: повышение своего статуса и авторитета в профессиональной среде; изменение экологии (в широком смысле слова) какого-либо сегмента социума; продвижение своих идей и взглядов на происходящее и будущее и т.д. Если организация уже существует и ее цели созвучны конкретному человеку, у него возникает потребность стать ее полноправным членом. В нашем случае сам факт принадлежности к профессиональному сообществу выступает маркером профессионализма человека и его сопричастности к решению серьезных социально значимых задач.
Сама организация также заинтересована в пополнении своих рядов за счет профессионалов, что способствует росту коллективного экспертного знания, расширяет возможности более оперативного и качественного принятия верных управленческих решений и, следовательно, достижения стратегических целей организации.
Помимо позиционирования организации как экспертной, одной из особенностей современных профессиональных экспертных сообществ является высокая вовлеченность ее членов в экспертную деятельность некоммерческого характера, поэтому при подборе членов к ним предъявляются особые требования – учитывается их внутренняя мотивация к труду (трудовая аскеза), способность длительное время работать в интенсивном режиме без вознаграждения.
Ошибочно считать любую группу профессионалов экспертно-аналитическим сообществом. Для этого необходимо:
-
1) позиционирование группы как профессионального сообщества, использующего при описании понятия, соответствующие смысловым единицам сообщества: сообщество/союз/ассоциация/объединение/партнерство/совет/клуб;
-
2) наличие институционализированного института поддержания и развития деятельности сообщества (лидер сообщества, свод определенных правил и норм, распределение ролей, иерархия в сообществе, цель и/или миссия, идеология, организационное оформление, культура сообщества);
-
3) позиционирование группы-сообщества как экспертного;
-
4) наличие, помимо некоммерческого направления деятельности, коммерческого, связанного с экспертностью (консалтинг, экспертиза, оценка);
-
5) прописанный и соблюдаемый порядок отбора в сообщество и контроль качества его членов;
-
6) наличие в профессиональном сообществе признанных экспертов, реестра с описанием их участия в качестве экспертов в работе общественных палат, советов, ассоциаций и т.п. [Долженко, Долженко 2019].
При выполнении не менее четырех из этих критериев группу профессионалов можно отнести к профессиональному экспертному сообществу.
Главное предназначение экспертно-аналитических сообществ заключается в определении круга и способов постановки значимых проблем, а также в выработке и обосновании конкурирующих подходов к их решению и прогнозировании их возможных последствий. Причем эта деятельность может быть обращена как непосредственно к лицам, принимающим властные (управленческие) решения, так и к широкому кругу участников публичного пространства.
Нас интересует первый случай, когда производство смыслов осуществляется в процессе выполнения членами сообщества собственно экспертных функций, т.е. использования профессионального (зачастую уникального) знания для выработки рекомендаций, снижающих степень неопределенности при принятии решений.
Изложенное выше, на наш взгляд, не в полной мере отражает особенность экспертно-аналитической деятельности как производной от экспертной и аналитической деятельности и не дает ответа на важные вопросы: что представляют собой аналитика и экспертиза? как образуется их симбиоз? кого мы называем аналитиками и экспертами?
В одной статье невозможно ответить на все эти вопросы. Однако считаем необходимым остановиться на следующем.
Прежде всего, экспертно-аналитическая деятельность выступает сферой и комплексным направлением исследовательской деятельности профессионального сообщества, а также социальным институтом. Как считает О.Н. Астафьева, с одной стороны, это открывает перед ученым пространство творческого поиска для решения нестандартных научно-прикладных проблем, предполагает его научную добросовестность, основанную на синтезе профессионализма и этических принципов науки, с другой – закрепляет статусноролевую позицию эксперта-аналитика в системе регулирования сложившихся практик1.
Экспертиза выступает как результат, составная часть экспертной деятельности. Само понятие «экспертиза» свидетельствует о ее многогранности и мно-гоаспектности. Экспертиза – это не только и не столько документ (заключение), содержащий экспертные выводы и оценки по существу рассматриваемых проблем. Это и научно-исследовательская процедура получения достоверной информации о проблемах и вопросах, включающая использование специальных знаний в определенной сфере деятельности; и особый тип научно-прикладной деятельности, включающий диагностику, консультирование, инспектирование и другие виды деятельности, комплексное использование которых позволяет сформировать целостный взгляд на предмет экспертизы, выработать соответствующие рекомендации; и социальная технология, применяемая для приведения объекта исследования в нормативное состояние; и идентификационный механизм подтверждения авторских прав эксперта.
Основное различие между экспертами и аналитиками заключается в разграничении решаемых ими задач. Эксперты высказывают мнение по конкретной заданной им проблеме. Аналитики разрабатывают информационную модель исследуемого объекта, проводят его ретроспективный анализ, выявляют тенденции и тренды его развития, строят прогнозы и на этой основе вносят рекомендации для принятия обоснованных управленческих решений. Другими словами, эксперты усиливают интуитивно-логическую составляющую анализа, подготовленного аналитиком, за счет количественной оценки суждений и формальной обработки результатов.
Авторы считают, что, помимо различия в содержательной стороне экспертной и аналитической деятельности, их отличает характер самой этой деятельности: дискретный – у экспертов и непрерывный – у аналитиков.
Казалось бы, все предельно ясно, но тогда почему представители научного (экспертно-аналитического) сообщества, непосредственно вовлеченные в аналитическую и экспертную работу во властных структурах, затрудняются в отнесении себя к тем или другим?
Мы разделяем мнение В.Н. Расторгуева, который видит первопричину в том, что члены профессионального сообщества в своей повседневной деятельности занимаются и экспертизой, и аналитикой, постоянно совмещая эти функции [Расторгуев 2018]. Поэтому опытные эксперты и аналитики, как правило, не испытывают проблем при смене органично связанных видов работы. При этом они сохраняют привычные им способы аргументации и стиль изложения, несмотря на жанровые различия при подготовке итоговых документов по линии экспертизы и аналитики.
Как видим, грань между экспертами и аналитиками достаточно тонкая, что наглядно проявляется в деятельности представителей научного сообщества, занимающихся аналитической и экспертной работой во властных структурах [Роль экспертно-аналитических… 2017].
Процесс незаметного размывания граней между множеством профессий имеет непосредственное отношение и к специализированной экспертной и аналитической деятельности, в т.ч. в области публичной и непубличной политики, однако пока еще эти грани позволяют, хотя и с большой долей условности, выделять и противопоставлять различные типы аналитики и экспертизы.
Отметим, что, в отличие от аналогичной деятельности в публичной сфере, для которой характерны ангажированность и безусловное следование целевым установкам заказчика, так называемая отраслевая экспертно-аналитическая деятельность, сосредоточенная в профессиональных союзах, ответственна и наукоемка. В противном случае это привело бы к дискредитации экспертной структуры и конкретных экспертов, возникновению экспертократии1, подмене экспертов-профессионалов теми, кто объявил себя таковыми или был «назначен» на эту роль властью, крупным бизнесом или СМИ [Егоров 2012].
Не менее пагубным является массовое включение в состав профессиональных сообществ бывших и действующих, публичных и непубличных экономистов, бизнесменов, политологов, политиков, чиновников и журналистов, обслуживавших или продолжающих обслуживать конкретных интересантов. При этом их вхождение в профессиональное сообщество обосновывается «нужностью экспертов», их корпоративными и лоббистскими возможностями, исключительностью знаний.
Такой подход к формированию экспертно-аналитических команд может породить иллюзию всеохватности ими многих областей знаний и политических практик, ведет к искажению коллективной «картины мира», в т.ч. понятийной. Возникает эффект так называемой беспредметности – следования устоявшимся взглядам и оценкам, невозможности или нежелания по-новому взглянуть на проблему, что снижает эвристический потенциал экспертно-аналитической деятельности, не позволяет полностью раскрыть ее системный характер.
К сожалению, подобного рода факты часто встречаются в практике экспертно-аналитической деятельности, что отрицательно сказывается на качестве работы профессиональных сообществ.
По мнению А.И. Селиванова, во многом с этим связан закономерный результат: «при малейшем обострении ситуации в любой сфере, в том числе в связи с активизацией антироссийских действий со стороны Запада и других стран, введением санкций, сразу становится ощутимым дефицит комплексных решений, начинаются сюжетные метания (от “турецкого потока” к разрыву отношений с Турцией, от “южного потока” к “северному потоку”, от болонской системы образования, ориентированной на “квалифицированного потребителя” (А.А. Фурсенко) к кампании по укрупнению вузов, от кампании по ЕГЭ – к кампании по пересмотру этой системы и т.д. и т.п.)» [Селиванов 2017].
По существу, экспертно-аналитическая деятельность осуществляется в интеллектуально-практическом поле, где происходит выработка нового экспертного знания и его проецирование на тревожащие нас проблемы, где профессионалы предъявляют обществу собственную исследовательскую позицию, подкрепленную системой специальных научных процедур.
Что касается взаимодействия аналитиков и экспертов, то это сложно организованный процесс обмена результатами их труда, направленный на накопление символического капитала властными структурами, с которыми непосредственно связано то или иное профессиональное сообщество. Как точно заметил С.С. Фролов, «любой социальный процесс – это упражнение в использовании власти» [Фролов 1994: 112].
Мы должны учитывать, что все виды взаимодействия (внутри экспертного сообщества, экспертных сообществ между собой, при интеграции экспертных обществ в структуру и функционирование организации) носят системный характер, что позволяет осуществлять формирование и использование коллективного знания в интересах достижения стратегических целей организации. Важно, чтобы это взаимодействие осуществлялось в общем информационном поле (структурированное информационное пространство), включающем, помимо знаний конкретной предметной области, общие категории – термины, принципы, подходы, методы, инструменты и т.д. Другими словами, эксперты и аналитики должны общаться на одинаково понятном для них языке, выявлять неработающие «конструкции» в устоявшихся дефинициях, ставших тормозом на пути к желаемому результату, совершенствовать категориально-понятийный аппарат как инструмент, при помощи которого проблема исследуется.
Яркий пример – определение понятия «безопасность» как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Впервые закрепленное в законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности», даже после утраты законом силы, это определение продолжает присутствовать в массе других нормативных документов. Но эксперты-аналитики не могут оперировать этим понятием. Достаточно поменять местами слова «безопасность» и «защищенность», чтобы это понять. Это как раз тот случай, который порождает «беспредметность», о чем мы и говорили выше.
Мы солидарны с Г.А. Атамановым, предложившим свое инструментальное определение понятия «безопасность»: это «термин, которым обозначается ситуация, при которой вероятность причинения объекту защиты вреда и его возможные размеры, по мнению оценивающего ситуацию субъекта, меньше некоторого субъективно установленного им же предела» [Атаманов 2012]. В этом определении четко отражены место и роль эксперта как профессионала в этой сфере, причем независимо от того, о какой безопасности идет речь.
Бесспорно, качественная аналитика должна базироваться на профессиональных знаниях, быть востребованной, включаться в процесс управления на всех его уровнях. Более того, она непосредственно зависит от уровня информационной и политической культуры как заказчиков – лиц, принимающих решения, и профессионалов – экспертов и аналитиков, так и общества в целом. Чтобы результаты экспертно-аналитической деятельности можно было «потреблять с аппетитом», а при определенных условиях – и защищаться от них, этот уровень должен быть достаточно высоким, что предъявляет соответствующие требования к подготовке аналитиков, их дополнительному образованию или самообразованию [Петров, Петрова 2020].
По мнению авторов, главная цель качественной экспертизы заключается в своевременности формирования прогнозов и за счет этого – в предоставлении управленцам резерва времени для принятия обоснованных решений по выявленным проблемам.
При этом на самих заказчиках лежит ответственность за выбор и формулирование исследовательской проблемы в виде формирования заказа для экспертной деятельности; аккумуляцию и представление кейсов, эмпирической базы и статистики по проблематике; отбор варианта решения из предложенных; разработку комплексного плана мероприятий по устранению проблемы или нейтрализации последствий ее воздействия; обратную связь с экспертноаналитическим сообществом. К сожалению, приходится констатировать, что заказчики этим вопросам не уделяют должного внимания. Если и встречаются факты разработки подобного заказа, то они, как правило, оформляются в виде всеохватного задания, единственная ценность которого заключается в представлении общей информационной модели проблемного поля. Крайне редки случаи разработки информационных заказов по исследованию конкретных информационных, в первую очередь динамичных, объектов, временные рамки существования которых ограничены.
В свою очередь, эксперты-аналитики сосредоточены на оценке текущего состояния проблем, процессов, субъектов; выработке методологии исследования; формировании предсказательного и предуказательного (средне- и долгосрочного) прогнозов; подготовке вариантов управленческих решений; мониторинге реализации комплексного плана мероприятий по проблеме с точки зрения оценки сопряжения практики и теоретической модели процессов; трансляции на управленческий уровень новых методологических подходов к анализу процессов, проблем и субъектов.
Отсутствие устойчивой обратной связи между заказчиком и экспертами-аналитиками, в т.ч. в рамках профессиональных сообществ, «заторы» в информационных каналах коммуникации между ними рано или поздно негативно сказываются на продуктивности деятельности последних, в т.ч. из-за накопления «усталости» от неизвестности того, как тот или иной аналитический или экспертный материал был воспринят заказчиком. Такая ситуация превратилась в серьезную проблему, требующую своего организационного решения.
Другими словами, необходима система мотивации (финансовая, статусная, оценочная), которая должна быть направлена на стимулирование эффективной работы по критериям информационного заказа на экспертную деятельность. Для развития профессионализма и поддержания конкуренции в экспертном сообществе, обеспечения притока туда новых высококвалифицированных специалистов важны примеры успешных экспертов, чей рост в социальном, статусном, материальном плане был напрямую связан с эффективностью их работы в рамках поставленных заказчиком задач.
В заключение отметим, что состояние и пути развития экспертно-аналитических сообществ напрямую связаны с позицией государства и общества: экспертное сообщество необходимо той системе, которая стремится играть на опережение, быть инициатором процесса, а не его жертвой.
Статья подготовлена в рамках работы Школы молодого этнополитолога (проект Фонда президентских грантов
№ 21-2-00592).
Список литературы Экспертно-аналитическое сообщество: наукоемкость и ответственность
- Атаманов Г.А. 2012. Азбука безопасности. Определения понятий "опасность" и "безопасность". - Защита информации. Инсайд. № 5. С. 8-13.
- Долженко Р.А., Долженко С.Б. 2019. Профессиональные экспертные сообщества и их роль в решении социально-экономических задач. - Вестник Омского университета. Сер. Экономика. Т. 17. № 3. С. 78-87.
- Егоров В.К. 2012. "Экспертократия": об институциональной сути явления. - Социология власти. № 3. С. 5-12.
- Мартьянова Н.А. 2013. Конструирование профессиональных объединений: от профессиональных групп к экспертным сообществам. - Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 162. С. 136-140.
- Петров В.К., Петрова М.Ю. 2020. О новом подходе к подготовке профессиональных аналитиков. - Власть. Т. 28. № 3. С. 17-23.
- Расторгуев В.Н. 2018. Аналитика и экспертиза в современной политике и новые тенденции в области стратегического планирования. - Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. № 4. С. 25-26.
- Роль экспертно-аналитических сообществ в формировании общественной повестки дня в современной России: сборник научых трудов. (отв. ред. О.Ю. Малинова). 2017. М.: Изд-во ИНИОН РАН. 182 с.
- Селиванов А.И. 2017. Научно-прикладное и экспертно-аналитическое обеспечение управления как отрасль. Доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-prikladnoe-i-ekspertno-analiticheskoe-obespechenie-upravleniya-kak-otrasl/viewer (проверено 11.05.2022).
- Фролов С.С. 1994. Социология: учебник для вузов. М.: Наука. 255 с.