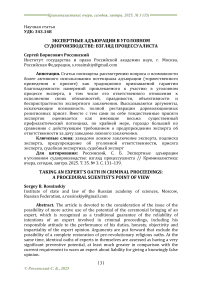Экспертные адъюрации в уголовном судопроизводстве: взгляд процессуалиста
Автор: Россинский С.Б.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности более активного использования потенциала адъюрации (торжественного приведения к присяге) как традиционно признаваемой гарантии благонадежности намерений привлекаемого к участию в уголовном процессе эксперта, в том числе его ответственного отношения к исполнению своих обязанностей, правдивости, объективности и беспристрастности экспертного заключения. Высказываются аргументы, исключающие возможность полной реставрации дореволюционных религиозных присяг. Вместе с тем сами по себе тождественные присяги экспертов оценивается как имеющие весьма существенный профилактический потенциал, по крайней мере, гораздо больший по сравнению с действующим требованием о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Заведомо ложное заключение эксперта, подписка эксперта, предупреждение об уголовной ответственности, присяга эксперта, судебная экспертиза, судебный эксперт
Короткий адрес: https://sciup.org/143184944
IDR: 143184944 | УДК: 343.148
Текст научной статьи Экспертные адъюрации в уголовном судопроизводстве: взгляд процессуалиста
Проблемы судебно-экспертного обеспечения уголовного судопроизводства всегда характеризовались особой актуальностью, побуждали к достаточно серьезным спорам и дискуссиям, привлекали специалистов в разных областях научного знания. Так, интересы одних ученых касаются общей теории судебной эксперто-логии, другим гораздо ближе вопросы методического обеспечения отдельных родов и видов судебных экспертиз, третьи пытаются внести посильную лепту в организацию экспертной практики и т. д. А для автора настоящей статьи как ученого-процессуалиста наиболее важными представляются проблемы юридической формализации назначения и производства судебных экспертиз, обеспечения качественности и достоверности получаемых выводов, допустимости, то есть юридической пригодности для нужд доказывания соответствующих экспертных заключений.
В этой связи желательно вспомнить, что в мировой практике одной из наиболее известных и распространенных гарантий благонадежности намерений, ответственности, объективности и беспристрастности судебного эксперта традиционно считалась так называемая адъюра-ция, состоящая в принесении присяги, клятвы, иного торжественного обещания. Подобные процедуры были свойственны подавляющему большинству существовавших в разных странах и в различные исторические периоды порядков назна- чения экспертиз либо иных процессуальных форм использования специальных знаний, они же остаются характерными для механизмов уголовного судопроизводства целого ряда современных государств.
Экспертные адъюрации были присущи и уголовной юстиции царской России [1, с. 127]. Соответствующие требования можно встретить и в архаичных положениях «николаевского» Свода законов 1832 г., и в нормах Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. В частности, в последние предреволюционные десятилетия основными гарантиями правдивости сообщаемых экспертами (как тогда говорили, сведущими лицами) сведений считались религиозные присяги, даваемые в соответствии с обрядами их (экспертов) вероисповеданий. Например, проводимые для православных экспертов адъюрации сводились к зачитыванию священником религиозного обещания, после которого подлежащему присяге лицу предписывалось приложиться к кресту, евангелию и вслух произнести: «Клянусь», иных верующих надлежало приводить к присягам согласно обрядам исповедуемых ими религий.
Вместе с тем дальнейшее прекращение использования адъюра-ций стало закономерным следствием влияния советской идеологии, поэтому в настоящее время не лишенными актуальности являются вопросы о возрождении подобных юридических гарантий доброкачественности экспертных заключений как средств уголовно процессуального доказывания, рассмотрению которых посвящается настоящая статья.
Основная часть
Итак, известные революционные потрясения 1917 года, приведшие к возникновению Советской России, предопределили вполне ожидаемый отказ от использования религиозных присяг и тому подобных способов обеспечения достоверности необходимых для нужд юстиции сведений. В принципе сформированное после Октябрьской революции советское правительство вовсе не стремилось к незамедлительному упразднению прежних, особо не противоречащих новой парадигме государственного управления механизмов расследования и судебного разбирательства уголовных дел. Напротив, ответственные за формирование раннесоветской системы уголовной юстиции (до весны 1918 года – преимущественно представители левоэсеровской партии [2, с. 164], а затем – члены РСДРП(б) с дореволюционным юридическим прошлым [3, с. 38]) постарались обеспечить максимально возможную преемственность вводимых правил по отношению к хорошо апробированным и достаточно прогрессивным для своего времени положениям «царского» законодательства. Вместе с тем сохранение религиозных присяг ввиду понятных причин не было возможным ни при каких условиях.
В связи с вышесказанным уже в ст. 14 принятого ВЦИК в феврале 1918 года известного Декрета о суде № 2 предписывалось отменить любые присяги, а достоверность соответствующих средств доказывания обеспечивать предварением (в современной терминологии – предупреждением) об ответственности за ложность сообщаемых сведений.
Позднее эти же идеи нашли отражение в положениях «пробного» Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1922 года, принятого менее чем через год «обновленного» Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 года, а затем и Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР 1960 года (далее – УПК РСФСР). В частности, согласно ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 189 УПК РСФСР 1960 года привлекаемого для производства судебной экспертизы специалиста надлежало предупреждать об ответственности за заведомо ложное заключение: при проведении исследований в судебно-экспертном учреждении данная обязанность возлагалась на его руководителя, тогда как при назначении экспертизы «частному», то есть не работающему в судебноэкспертном учреждении лицу – на самого следователя (на иное назначившее экспертизу лиц). Правда в УПК РСФСР прямо не говорилось об обязанности эксперта давать соответствующую подписку. Однако подобные требования стали усматриваться практическими работниками из смысла закона. По крайней мере, повсеместно используемые в практике последних лет применения УПК РСФСР стандартизированные шаблоны экспертных заключений обязательно предполагали заготовленный вариант подписки эксперта о разъяснении ему прав, обязанностей и предупреждении его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Автору настоящей статьи, проходившему в конце 1990-х гг. службу в Следственном управлении ГУВД г. Москвы (позднее – Главном следственном управлении при ГУВД г. Москвы) приходилось работать со множеством подобных документов.
На сегодняшний день предупреждения об уголовной ответственности по-прежнему остаются «замени- телями» экспертных адъюраций. Они же являются процессуальнопрофилактическими мерами, способствующими предотвращению дачи заведомо ложного заключения. А необходимость выполнения данных требований вытекает из совокупного содержания ч. 2, 4 ст. 199 и п. 5 ч. 1 ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее – УПК РФ). Кстати, в этой связи нельзя не обратить внимания на особый и достаточно неопределенный режим предупреждений об ответственности сотрудников государственных экспертных учреждений. Эти процессуально профилактические меры являются настолько устоявшимися, глубоко укоренившимися в законодательстве и правоприменительной деятельности, что воспринимаются практическими работниками как само собой разумеющиеся. В настоящее время вряд ли можно встретить дознавателя, следователя, прокурора, адвоката, сотрудника судебно-экспертного учреждения или судью, сомневающегося в необходимости предупреждения эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ). Маловероятно, что кто-либо из них даже задумывается над данным вопросом. Обычно такие предупреждения как фрагменты ежедневной процессуальной рутины осуществляются достаточно рефлекторно, машинально, «на автомате».
Вместе с тем сами по себе требования о предупреждении экспертов об уголовной ответственности представляются несколько странными. Они плохо согласуются с известным принципом презумпции знания закона в целом и уголовного закона в частности, обычно выражаемом в виде крылатого латинского афоризма «Ignorantia juris neminem excusat» («Незнание закона не освобождает от ответственности»). «Никто не может оправдываться незнанием закона, – писал крупный советский правовед А. А. Тилле, – эту известную с незапамятных времен «формулу» надлежит осознавать и всякому юристу, и любому не состоящему в юридической корпорации обывателю» [4, с. 34]. Схожие взгляды высказывались и другими известными авторами. Действительно, в части прочих правоотношений, в том числе каких-то обыденных, повседневно-жизненных ситуаций, справедливость и бесспорность подобного «неписаного» принципа ни у кого не вызывает сомнений – в противном случае можно было бы ожидать его формальное закрепление в положениях Конституции Российской Федерации или уголовного закона.
В этой связи вряд ли кому-либо может прийти в голову мысль о потребности в предупреждении любого выходящего из дома человека о недопустимости совершения убийства, кражи, грабежа, разбоя и т. д., а садящегося «за руль» автомобилиста – о преступности нарушения правил дорожного движения, которое может привести к серьезным последствиям. Маловероятно, что сотрудники загса станут разъяснять вступающим в законный брак молодым людям положения уголовного закона, преду- сматривающего санкции за домашнее насилие. Едва ли кому-то покажется разумным каждое утро требовать от приходящего на работу чиновника давать подписку об осведомленности об уголовной ответственности за получение взятки, злоупотребление полномочиями, халатность и пр., еще менее вероятно, что кто-то сочтет необходимым подвергать таким бессмысленным обременениям сотрудников органов предварительного расследования, прокуроров и судей.
Однако в отношении экспертов (равно как и свидетелей, потерпевших, а также некоторых иных участников уголовно-процессуальных и прочих «судебных» правоотношений) почему-то стал использоваться принципиально иной подход - принцип презумпции знания уголовного закона фактически был заменен противоположным принципом презумпции незнания уголовного закона. Причем наиболее вычурными подобные предписания выглядят в части предупреждений об уголовной ответственности государственных судебных экспертов, то есть экспертов-профессионалов.
Конечно, презумпцию знания уголовного закона нельзя считать абсолютно универсальной и неопровержимой. Скорее следует согласиться с позициями ученых, предлагающих ограничивать практическую реализацию данного принципа рядом исключений. Так, еще Н. С. Таганцев вполне справедливо не допускал существования суперэрудированных людей, в том числе профессиональных юристов, знающих все нюансы «антикриминального» (в терминологии автора-полицейского) законодательства [5, с. 238]. В настоящее время подобных взглядов придерживаются С. С. Тихонова [6, с. 125–127], П. Н. Панченко [7, с. 228] и многие другие известные авторы.
Вместе с тем предусмотренные ст. 307 УК РФ преступления являются слишком «примитивными», а охраняемые ими правоотношения, будучи воплощением известных, в каком-то смысле даже традиционных для российского общества ценностной, - вполне очевидными для понимания абсолютным большинством населения. Вряд ли кто-либо из представителей многонационального народа России не знает, по крайней мере не догладывается об аморальности лжи, в особенности в связи с потенциальной возможностью освобождения от ответственности виновного в каком-либо деянии человека или, наоборот, привлечения к ответственности невиновного. Эта признаваемая в основных мировых культурах и религиях «прописная истина» обычно доводится до людей в процессе родительского, школьного или иного воспитания, вне всякого сомнения, должна быть хорошо известна каждому, пусть даже стоящему на самой низкой ступени социальной лестницы члену общества, тем более такой постулат должен быть очевиден для лиц, предрасположенных к проведению судебно-экспертных исследований, то есть достигших определенного уровня образованности и культуры.
Кстати, в этой связи вполне можно предположить, что установленные нормами УПК РФ требования о предупреждении экспертов об ответственности за заведомо ложное заключение направлены не столько на их устрашение, сколько на правовое «просвещение» еще не вполне «освоивших данное ремесло», в первую очередь тех самых, привлекаемых на непрофессиональной основе «частных», то есть не работающих в судебно-экспертных учреждениях лиц, например, уникальных специалистов в области живописи, иконописи, музыки и т. п. Можно подумать, что данные требования подразумевают не столько побуждение к опасениям за наступление предусмотренных ст. 307 УК РФ репрессивных последствий, сколько разъяснение тех конкретных форм аморального поведения в сфере уголовного судопроизводства, которые признаются уголовно-наказуемыми деяниями. Вместе с тем добиться надлежащего эффекта таких предупредительных мер, то есть обеспечить подлинное понимание среднестатистическими адресатами доводимых до них положений уголовного закона все равно практически невозможно. Ведь в силу достаточно сложной национальной системы уголовно-правового регулирования, предполагающей возможность применения конкретных норм Особенной части УК РФ лишь в системном единстве с положениями Общей части УК РФ, с учетом имеющихся позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а иногда и Конституционного Суда Российской Федерации, «рядовые» обыватели, не имеющие базовой юридической подготовки дилетанты просто не в состоянии уразуметь смысл вкратце сообщаемых им сведений. Тогда как для подлинного осознания данных сведений дознавателю, следователю или судье приходилось бы каждый раз превращаться в преподавателя уголовного права и методично знакомить «новоиспеченного» эксперта со всеми нюансами преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ, и особенностями соответствующей правоприменительной практики. Ввиду понятных причин такие приемы дознавательской, следственной или судебной работы видятся совершенно невозможными.
Исходя из сказанного, становится вполне очевидно, что некогда «принятые на вооружение» советским законодателем в качестве «заменителей» экспертных адъюраций преду- преждения потенциальных экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, включая соответствующие подписки, в реальности являются не более чем пустыми формальностями. По крайней мере, на сегодняшний день в них уже не усматривается никакого смысла. В связи с этим в последнее время в специальной литературе вновь стали обсуждаться идеи о возможности использования присяг как гарантий доброкачественности необходимых для нужд уголовной юстиции и подлежащих получению посредством судебно-экспертных исследований сведений. В частности, такие позиции неоднократно высказывались Р. С. Белкиным [8, с. 615– 616], Е. Р. Россинской [9, с. 147] и другими учеными-криминалистами.
Выводы и заключение
Не стоит воспринимать вышесказанное в качестве призыва к реставрации предусмотренных дореволюционным законодательством адъюраций религиозного характера как гарантий надлежащего исполнения экспертами процессуальных обязанностей.
Представляется, что невзирая на проводимую государством достаточно мудрую политику в сфере возрождения церковных ценностей, в России вряд ли когда-нибудь, по крайней мере в обозримой будущем, удастся достигнуть дореволюционного уровня религиозности населения, в частности большого количества подлинно и глубоко верующих людей, обладающих достаточными для проведения экспертных исследований специальными знаниями в области науки или техники, искусства или ремесла, тем более, что установленные Уставом уголовного судопроизводства Российской империи экспертные адъюрации были не такими уж безупречными и справедливыми, какими они видятся некото- рым коллегам, главным образом представителям так называемой либеральной общественности, привыкшим к демонизации всего советского, в том числе постреволюционных реформ в сфере уголовной юстиции. Например, к свидетельству под присягой не допускались «лишенные по суду всех прав состояния или всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию им присвоенных», «евреи - по делам бывших их единоверцев, принявших христианскую веру, и раскольники - по делам лиц, обратившихся из раскола в православие», некоторые другие категории вполне нормальных в современном понимании лиц.
Вместе с тем сами по себе экспертные адъюрации представляются имеющими весьма ощутимый потенциал, по крайней мере, гораздо больший по сравнению с предусмотренными действующим уголовнопроцессуальным законом предупреждениями об ответственности по ст. 307 УК РФ. Думается, что «коллективному законодателю» надлежит всерьез задуматься о возвращении в сферу уголовного судопроизводства (равно как и в сферы иных судопроиз-водств) подобных юридических механизмов, но в несколько иной, сугубо светской, то есть исключающей религиозную направленность форме. Как справедливо отмечается в литературе, современные процессуальные клятвы должны характеризоваться нейтральным отношением к религии [10, с. 102]. Например, можно предусмотреть присягу эксперта, связанную с упоминанием любви к Родине, памяти предков, иных общепризнанных ценностей российского общества и подлежащую произнесению в условиях соблюдения каких-либо вытекающих из смысла Конституции Российской Федерации светских ритуалов: на фоне Государственного флага Российской Федерации, Госу- дарственного герба Российской Федерации и т. п. Также можно прибегнуть к использованию предполагающих некоторую вариативность механизмов, для чего позаимствовать опыт ныне политически недружественных, но при этом располагающих вполне качественными правовыми системами государств. В частности, в Соединенных Штатах Америки в настоящее время предусмотрена достаточна «гибкая» процедура приведения к присяге, рассчитанная на представителей разных конфессий, атеистов, детей и прочие категории лиц - каждому свидетелю дозволяется клясться с упоминанием ценностей исповедуемой религии либо давать тождественные обещания без обращения к таковым. Кроме того, не мешало бы предусмотреть возможность разового приведения к присяге «профессионального» эксперта, то есть сотрудника судебно-экспертного учреждения при его назначении на должность либо при получении права самостоятельного производства судебных экспертиз (по аналогии с судьей, прокурором, адвокатом), одновременно исключив надобность проведения множества текущих адъюраций, сопутствующих назначению каждой судебной экспертизы в отдельности.
В любом случае для обеспечения надежности экспертных адъюраций государству было бы желательно принять дополнительные меры, способствующие повышению уровня правовой культуры лиц, предрасположенных к проведению судебноэкспертных исследований. В части «профессиональных» экспертов такие меры могут состоять в обеспечении более ответственных подходов к подготовке будущих кадров, в первую очередь в грамотном наполнении и надлежащей реализации соответствующих образовательных программ, тогда как в части не работающих в судебно-экспертных учре- ждениях лиц подобные задачи могут быть решены посредством побуждения «рядовых обывателей» к пониманию особого значения правосудия и осознанию необходимости должного исполнения судопроизводственных запретов и обязанностей, например подробного рассмотрения указанных вопросов на школьных уроках обществознания и т. п. Кроме того, вполне возможно предусмотреть достаточно суровую уголовною ответственность за нарушение экспертом принятой присяги не за дачу заведомо ложного заключения, а именно за нарушение присяги. Одновременно надлежит задуматься о деформализации предупреждений экспертов по ст. 307 УК РФ и оформления соответствующих подписок. В условиях внедрения в правоприменительную практику экспертных адъюраций такие предупреждения и подписки окончательно потеряют всякий смысл, окончательно превратятся в не имеющие никакого значения и лишь обременяющие правоприменительную практику пустые формальности.