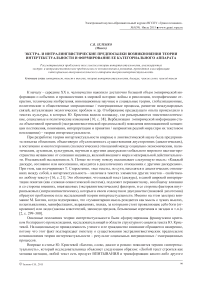Экстра- и интралингвистические предпосылки возникновения теории интертекстуальности и формирование ее категориального аппарата
Автор: Зеленко Сергей Викторович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблемное поле генезиса теории интертекстуальности, анализируются экстра- и интралингвистические предпосылки ее возникновения и развития, проводится классификация категориально-теорминологического аппарата теории интертекстуальности.
Интертекст, текст в тексте, теория интертекстуальности, дискурс, чужое слово, чужой текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14822311
IDR: 14822311
Текст научной статьи Экстра- и интралингвистические предпосылки возникновения теории интертекстуальности и формирование ее категориального аппарата
К началу – середине ХХ в. человечество накопило достаточно большой объем эмпирической информации о событиях и происшествиях в мировой истории: войны и революции, географические открытия, технические изобретения, инновационные научные и социальные теории, глобализационные, политические и общественные миграционные / эмиграционные процессы, развитие международных связей, актуализация экологических проблем и др. Отображение предыдущего опыта происходило в текстах культуры, в которых Ю. Кристева видела площадку, где разыгрываются эпистемиологичес-кие, социальные и политические изменения [10, с. 38]. Вербализация эмпирической информации стала объективной причиной (экстралингвистической предпосылкой) появления инновационной концепции постижения, понимания, интерпретации и принятия / непринятия реалий мира (при их текстовом воплощении) – теории интертекстуальности.
При разработке теории интертекстуальности впервые в лингвистической науке была предпринята попытка обосновать объективную обусловленность существования двусторонних (диалогических), а постепенно и многосторонних (полилогических) отношений между социально-экономическим, политическим, духовным, культурным, научным и другими дискурсами глобального мирового пастиш-про-странства независимо от сознания индивида, явлений внешнего мира и материальной действительности. Итальянский исследователь А. Понцо по этому поводу высказывает следующую мысль: «Каждый дискурс, осознанно или неосознанно, находится в диалогических отношениях с другими дискурсами». При этом, как подчеркивает Т. Старостенко, «все тексты, по сути, находятся в диалогических отношениях между собой, а интертекстуальность – наличие в текстах элементов других текстов – свойственно любому тексту» [16, с. 21]. Это обозначает, что каждый текст (дискурс), в самой широкой интерпретации понятия (как сложная семиотической система), подлежит перманентному, всеобщему влиянию и со стороны внешних, внеязыковых (экстралингвистических) факторов, и со стороны факторов внутриязыковых (интралингвистических), которые в своем совокупном двуединстве (знаковой дихотомии) образуют проблемное поле исследований теории интертекстуальности. Именно на этом заострял внимание М. Бахтин, когда подчеркивал, что «гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, волеизъявлениях, манифестациях, выражениях, знаках, за которыми стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди предков, безыменные изречения и загадки и т.п.)» [2, с. 299–300].
Основные положения теории интертекстуальности были сформулированы французским критиком болгарского происхождения, исследовательницей в области структурного анализа текста Ю. Крис-тевой. На национальную принадлежность ученого и ее гражданство внимание обращается намеренно, потому что этот факт подтверждает гипотезу о существовании экстралингвистических предпосылок возникновения теории интертекстуальности – результат социальных миграционных / эмиграционных процессов.
Впервые в статье Ю. Кристевой «Бахтин, слово, диалог и роман» появляется термин «интертекстуальность», который исследовательница объясняет следующим образом: «Любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт ВПИТЫВАНИЯ и трансформации какого-либо другого текста <...>. Всякое слово (текст) есть такое пересечение других слов (текстов), где можно, по меньшей мере, прочесть еще одно слово (текст)» [9, с. 6]. Ю. Лотман, развивая выводы Ю. Кристевой, резонно констатирует: «Проблема разнообразных соположений разнородных текстов, столь остро поставленная в искусстве и культуре ХХ в., по сути принадлежит к весьма древним. Именно она лежит в основе круга вопросов, связанных с темой «текст в тексте» <...>. Культура – не беспорядочное накопление текстов, а сложная, иерархически организованная, работающая система. Однако сложность ее относительно оси «однородность / неоднородность» такова, что всякий текст неизбежно предстает минимум в двух перспективах, как включенный в два типа контекстов. С одной точки зрения, он выступает как однородный с другими текстами, с другой, – как выпадающий из ряда, «странный» и «непонятный» [11, с. 12–13]. Профессор В. Ивченков утверждает: «В любом тексте актуализируются «эндоксальные знания» (исторические, философские, психологические, литературные), из которых вырастает произведение и состоящие из многочисленных стереотипов, усвоенных бытовым сознанием» [5, с. 15].
Ю. Кристева подчеркивала: «Любая книга отсылает к другим книгам и благодаря различным способам суммирования (аппликации, говоря языком математиков) наделяет эти книги новым способом бытия, создавая тем самым собственное значение» [10, с. 200]. Значит, творческая деятельность автора в эпоху постмодерна заключается не в написании (создании) нового текста, а только в осмыслении, интерпретации, переработке, трансформации, заимствования более раннего или современного ему корпуса текстов, предыдущих источников информации с последующим созданием коллажных по своей структуре произведений.
В исследованиях по теории интертекстуальности Ю. Кристева опиралась на теорию «диалогического (чужого) слово (голоса)», которая была сформулирована М. Бахтиным: «Бахтин хочет сказать, что всякое письмо есть способ чтения совокупности предшествующих литературных текстов, что всякий текст вбирает в себя другой текст и является репликой в его сторону» [9, с. 8].
М. Бахтин еще в начале ХХ в. отмечал, что автор литературного произведения создает его из разнородных «чужих» высказываний. При этом ученый обращал внимание как на внутриязыковые, так и на внеязыковые предпосылки текстообразования: «Высказывание в его целом оформлено как таковое внелингвистическими моментами (диалогическими), оно связано и с другими высказываниями. Эти внелингвистические (диалогические) моменты пронизывают высказывание и изнутри» [2, с. 306]. Таким образом, научные исследования М. Бахтина по литературе, философии, лингвистике стали одной из первых интралингвистических предпосылок появления теории интертекстуальности, в то время как их интерпретацию можно считать экстралингвистической предпосылкой.
Нужно отметить, что в качестве объекта изучения теории интертекстуальности сегодня рассматриваются не только произведения литературы, но и другие риторическо-знаковые системы – различные виды искусства: «Культура в целом может рассматриваться как ТЕКСТ. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это сложно устроенный ТЕКСТ, распадающийся на иерархию «ТЕКСТОВ в ТЕКСТАХ» и образующий сложные переплетения ТЕКСТОВ. Поскольку само слово «ТЕКСТ» включает в себя этимологию переплетения, мы можем сказать, что таким толкованием мы возвращаем понятию «ТЕКСТ» его исходное значение» [12, с. 18]. Основываясь на таком понимании термина «текст», ученые в последнее время обратили внимание на исследование явления интертекстуальности в научном дискурсе, произведениях архитектуры, киноискусства, изобразительного искусства, музыки, ин-тернет-коммуникации, средств массовой информации и т.д.
Определяя природу функционирования интертекстов в произведениях культуры, исследователи обратились к решению следующих проблем: изучение функций, которые выполняет интертекст в авторском тексте [1; 20]; разграничение явления интертекстуальности на читательскую (исследовательскую) и авторскую, внешнюю и внутреннюю [18] и кодовую, текстовую, вербальную и невербальную [1]; классификация типов интертекстуальности [6]; определение видов интертекстуальных единиц [4; 8; 14; 15; 17], анализ и характеристика ролей, которые выполняют автор (создатель сообщения) и читатель (интерпретатор текстового кода) при создании, трансляции и рецепции произведения [2; 8; 13] и др.
Развитие теории интертекстуальности в свою очередь породило значительный рост ее терминологического аппарата, который сегодня включает в себя несколько сотен определений, появившихся непосредственно в пределах теории или занятых из других отраслей знаний.
Большой объем терминологического аппарата иногда приводит к контаминации понятий и определений, которыми оперируют исследователи. Можно отметить, что, например, прецедентные феномены (прецедентное имя и прецедентное ситуация) в научной интерпретации С. Сметаниной [15] имеют ту же смысловую природу, что и аллюзия у И. Арнольд [1], таким же образом соотносятся прецедентный текст с реминисценцией, прецедентное высказывание с цитатой, прием интерстилевого тонирования с кодовой интертекстуальностью. Значит, одно и то же языковое явление исследователи номинируют по-разному. На эту проблему обращает внимание И. Арнольд, которая отмечает, что концепция интертекстуальности нашла широкое распространение в работах многих ученых, но конкретное ее наполнение получилось очень разнообразным, в зависимости от философско-методологических установок каждого из авторов, кто подхватил идею [Там же, с. 351]. Отсюда следует необходимость дефинирования понятий цитата, цитация, цитатное письмо; текст в тексте, интертекст, интекст, интертекстуальность, с последующей их кодификацией.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодня в научной среде пока нет единой точки зрения на проблему формулирования теории интертекстуальности, ее терминологического аппарата. Исследователи также не выработали единой системы выделения видов, типов и форм интертекстуальности: «Литературоведение многое сделало для определения различных форм интертекстуальных связей, конкретных видов интекстов. Но и это направление исследования, безусловно, могло бы быть продолжено» [3, с. 36].
Полагаем, что исследование функционирования «текстов в текстах» остается актуальным для современной науки, не только лингвистики, но и журналистики, культурологии, философии и социологии. Продолжение изучения явления интертекстуальности, в частности в отношении публицистических текстов, поспособствует завершению становления теории интертекстуальности, чему, на наш взгляд, в значительной степени должно посодействовать упорядочение ее категориального аппарата.
Интралингвистические предпосылки возникновения теории интертекстуальности наиболее ярко проявились в произведениях художественной литературы, когда под влиянием поэтики эпохи постмодерна (экстралингвистические предпосылки) авторы обратились к новой, до сих пор не использованной, компоновке и структурированию цитат, аллюзий и реминисценций, ссылок на литературные, исторические, культурные дискурсы. Профессор В. Ивченков подчеркивает: «Сегодня можно констатировать, что желание расширить сферу интертекста в словесном искусстве стало почти обязательной чертой, в частности, публицистического текста. Различные подходы к изучению этого явления оттеняют его многоаспектность и разнообразие применения...» [5, с. 114].
Поэтому именно публицистический текст в последнее время оказался в центре внимания ученых в качестве объекта исследования. Профессор М. Тикоцкий, очерчивая стилистическую парадигму современного публицистического текста, актуальным составляющей ее считать интертекстуальность: «Важную стилистическую роль в создании художественных и публицистических текстов выполняют так называемые интертекстуальные единицы речи <...>. Особый характер приобретает использование интертекстуальных приемов в публицистике, в современных газетных текстах» [19, с. 266]. В русле сказанного отметим, что, в отличие от текстов художественной литературы, в публицистике как наивысшем виде общественно-политической литературы, основная функция которой заключается в формировании и отражении общественного мнения, проявились в большей степени экстралингвисти-ческие факторы возникновения теории интертекстуальности.
Список литературы Экстра- и интралингвистические предпосылки возникновения теории интертекстуальности и формирование ее категориального аппарата
- Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: СПбГУ, 1999.
- Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000.
- Володина Н.В. Явление интертекстуальности в аспекте типологии//Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: материалы Междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 1./Гродн. гос. ун-т.; под ред. Т.Е. Автухович. Гродно, 2001.
- Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М.: МГУ, 1999.
- Iўчанкаў В.I. Дыскурс беларускiх СМI. Арганiзацыя публiцыстычнага тэксту. Мiнск: БДУ, 2003.
- Женетт Ж. Введение в архитекст//Фигуры: в 2-х т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: URSS: ЛКИ, 2007.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003.
- Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 4.
- Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004.
- Лотман Ю.М. «Чужое слово» в поэтическом тексте//Анализ поэтического текста. Л.: Просвещение, 1972.
- Лотман Ю.М. Текст в тексте//Труды по знаковым системам/Тарт. гос. ун-т. Тарту, 1981. Т. 14: Текст в тексте. Сер. 95. Вып. 567.
- Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: ЛКИ, 2008. Понцо А. Другость у Бахтина, Бланшо и Левинаса//Бахтинология: исследования, переводы, публикации. К столетию рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895-1995). СПб.: Алетейя, 1995.
- Селезнев А.В. К вопросу определения критерия межтекстовых взаимодействий//Вести МГЛУ. Сер. 1, Филология. 2003. № 12.
- Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века). -СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.
- Старасценка Т.Я. Стылiстыка тэксту. Мiнск: БДПУ, 2007.
- Тороп П. Тотальный перевод. Тарту: Тартуск. ун-т, 1995.
- Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе//Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1997. Т. 56. № 5.
- Цiкоцкi М.Я. Iнтэртэкстуальныя адзiнкi маўлення i iх стылiстычнае выкарыстанне ў мастацкiх i публiцыстычных тэкстах//Журналiстыка-2002: матэрыялы 4-й Мiжнар. навук.-практ. канф., Мiнск, 5-6 снеж. 2002 г./Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.П. Вараб’ёў . Мiнск, 2002.
- Якобсон Р.О. Тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999.