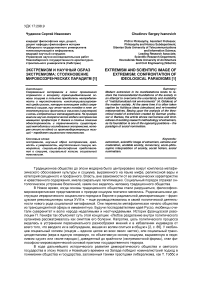Экстремизм и научный образ экстремизма: столкновение мировоззренческих парадигм
Автор: Чудинов Сергей Иванович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 18, 2014 года.
Бесплатный доступ
Современный экстремизм в своих проявлениях стремится к возврату трансцендентальной основы социума в попытке преодолеть неопределенность и неустойчивость «институциализированной среды риска», которую воплощает собой современный социум, при этом часто попадая в плен интеллектуальных фиктивных смыслов (симулякров) и вновь изобретенных метанарративов. На примере анализа научно-теоретической модели экстремизма немецкого профессора У. Бакеса в статье показана односторонность и ограниченность существующей методологии исследования экстремизма, которая стоит на одной из противоборствующих позиций - парадигме социального номинализма.
Экстремизм, научный образ экстремизма, крайность и умеренность, неустойчивый социум, монократия, социально-философские представления о социуме, социальный холизм, социальный номинализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14936229
IDR: 14936229 | УДК: 17:298.9
Текст научной статьи Экстремизм и научный образ экстремизма: столкновение мировоззренческих парадигм
Традиционное общество до эпохи модерна было центрировано вокруг комплекса метафизического обоснования культуры и социума, выраженного на языке мифа, религиозной веры и категорий священного и профанного. Власть, вне зависимости от ее эмпирических характеристик и нравственного содержания, имела сакральную легитимацию. Социальный порядок отражал онтологическое устроение Вселенной, каким оно виделось человеку традиционного общества.
В Новое время, когда основы традиционного общества стали разрушаться, философско-мировоззренческие представления о природе социума поэтапно менялись. Родоначальники деструкции иерархического социального порядка в Европе и радикальной демократизации – французские революционеры конца XVIII в. – еще руководствовались в своей политической деятельности нового рода социальной метафизикой. Они перенесли метафизическое начало общества из трансцендентной сферы в имманентную. Будучи последователями идей Руссо, якобинцы считали суверенитет и волю народа неделимыми и неотчуждаемыми. Историк французской революции П. Генифе так объясняет суть этой концепции: «Любое разделение внутри политического организма рассматривалось как симптом его болезни. Напротив, цель политического процесса виделась в устранении первоначального разнообразия мнений и в избавлении индивидов от всего того, что вводило их в заблуждение, мешая их волям слиться в общую» [2, с. 86]. У якобинцев социальный холизм (социум – единое целое во всех своих частях), или социальный трансцендентализм (вера в единую незримую, но объективную основу социума, выраженную в неделимом «духе» или «воле народа»), доведенный до крайности (экстремистской формы), стал философско-мировоззренческой основой практики государственного террора.
В ходе дальнейшего исторического развития демократического общества и светского государства в эпоху Нового и Новейшего времени на Западе победил номиналистский подход в понимании общества и государства, заложенный такими праотцами либерализма, как Т. Гоббс и
Дж. Локк. Общество для западного человека означает гражданский порядок, состоящий из временного динамического сцепления и разделения воль самостоятельных индивидов в их социальных отношениях. Государство - искусственный «организм», родившийся в результате конвенциональных отношений между индивидами. Он выражает их общие потребности и интересы, даже если они и не удовлетворяются совершенным образом.
Так были заложены две парадигмы восприятия социальной реальности - социальный трансцендентализм (или социальный холизм) и социальный сингуляризм (номинализм).
Современный экстремизм во многих своих проявлениях стремится к возврату трансцендентальной основы социума в попытке преодолеть неопределенность и неустойчивость «инсти-туциализированной среды риска» (Э. Гидденс), которую воплощает собой современный социум, при этом часто попадая в плен интеллектуальных фантазмов и фиктивных смыслов (симулякров). Доминирующий научный образ экстремизма, как показывает его анализ, представляет собой перспективу оценки социально-деструктивных явлений социума с позиции одностороннего социального сингуляризма, то есть социально-философских представлений, которым как раз и противопоставляет себя экстремизм во множестве своих идеологических разновидностей.
Немецкий ученый У. Бакес создал одну из научных моделей экстремизма, наиболее обоснованную в социально-философском ракурсе и фундированную в рамках современной либерально-демократической системы этико-политических ценностей. Опираясь на фундамент античной этики «золотой середины», Бакес создает модель нормативной социально-политической конституционной системы, в рамках которой экстремизм выступает как ее этические и правовые границы. Экстремизм становится универсальной антитезой конституционного порядка, олицетворяющего «срединность» континуума социально-политического действия [3, с. 242-243].
Создавая научно-теоретическую модель экстремизма, немецкий профессор строго следует принципу социального сингуляризма (номинализма). Установление границ «крайностей», неприемлемого радикализма в социально-политической области он привязывает к нормативной модели демократизма и конституционализма. В свою очередь, то, что может считаться демократичным, должно базироваться, по мысли ученого, на социальной конвенции. Нормативность должна формироваться от противного: вначале следует определить, что в «наиболее прочной и определенной социальной конвенции» отвергается как «абсолютно неприемлемое». Это сузит возможности выбора того, что признается законным, и позволит открыться множеству путей для приближения к цели, рассматриваемой как благо [4, с. 249].
Второй уровень социальной конвенции современного социума (относительно того, что есть социальное и политическое благо), по мнению Бакеса, включает в себя несколько пунктов, в качестве центрального из которых следует выделить плюрализм: государство в своем институциональном устройстве, коммуникации и при принятии решений должно учитывать различие интересов и взглядов людей и социальных групп и не должно исходить из максим единственного индивида или отдельной социальной группы. Экстремистская модель власти и социальной коммуникации в политической сфере подразумевает монизм как антипод выше обозначенного плюрализма. «Монизм», или «монократия» (автократия), означает «связное требование власти, которая (если это вообще возможно) уничтожает любое соревнование, не терпима к разнообразию и оппозиции, по меньшей мере стремится представить это (такую установку) безобидным, останавливает политические перемены, препятствует и подавляет автономные обязательства групп и людей, по меньшей мере когда они стоят на пути амбиций правителей» [5, с. 250].
Эта характеристика далее приобретает конкретизацию на социально-коммуникационном уровне. Структуры процесса социетальной коммуникации конституционного государства и экстремистской модели различаются ученым как «тип форума» и «тип дворца» соответственно. Первый вариант подразумевает публичность обсуждения государственных вопросов, «рынок политических идей», обсуждение общественных проблем через дискуссию, открыто, доступно и видимо для всех. Под вторым имеется в виду закрытость власти для общества, избегание публичности в делах государства. Движение в сторону монократии вызывается через исключительное требование интерпретации и организации истины, которая ссылается на «высочайшие озарения», «неопровержимость власти» и / или знание «законов истории». Экстремистская модель мышления отказывается признать гетерогенность и неоднозначность мира, сложность жизненных обстоятельств и конфликтующую природу общества как факты и, следовательно, отказывается конструктивно использовать это знание на практике [6].
Как мы видим, немецкий специалист в области исследования экстремизма в полном соответствии с неолиберальными представлениями строит свою модель различения «нормативности / экстремизма» исходя из методологических установок социального сингуляризма (социального номинализма). Власть не может и не должна опираться на какую-либо сакральную легитимацию, «ис- торическую миссию» и тому подобные трансцендентальные опоры социальной реальности и стимулы социально-исторического развития. Социальная жизнь, как и бытие в целом, - это магма хаотических стремлений и противоречий индивидов и социальных групп, которые приводятся в порядок и более или менее устойчивое согласование только путем социальной конвенции.
Несмотря на слишком широкое понимание этой категории, Бакес верно отмечает в своей концептуальной модели «монизм» как один из ведущих атрибутов значительного числа типов и форм экстремизма в «постсовременном» социуме. И дело здесь кроется не только в своеобразии типа коммуникации экстремистов с остальным обществом, но прежде всего в экзистенциальной основе экстремистского мировоззрения. Часто бывает, что идеологический и политический экстремизм, порожденный самой «институционализированной средой риска» современного социума, питается экзистенциальным чувством неустойчивости, безосновности и стремительной темпоральной текучести социального бытия, в котором нет ничего, что могло бы считаться неизменным, прочным, дающим чувство подлинной безопасности, не говоря о личностной причастности к вечности.
Образ, описанный Бакесом, несмотря не его некоторую ограниченность и идеологическую тенденциозность (любая автократическая или сакрально легитимированная власть подпадает под подозрение в экстремистских тенденциях), вполне адекватно отражает одно из направлений экстремистского протеста внутри постмодернистского социума, связанного с деструкцией господства мышления с позиции социального номинализма и имманентизма. Это социальное разноликое и разнородное движение можно назвать «восстанием метанарративов», поскольку оно возрождает такие, казалось бы, забытые концепты, как «раса», «нация», «народ», «провиденция», «сакральная власть» (в их наполовину отрефлексированном, а в большей степени иррационально чаемом метафизическом, а не социолого-статистическом толковании), которые вновь заявляют о себе. Одним из вариантов этого широкого спектра экстремистских флуктуаций выступает религиозно-идеологический протест в виде фундаменталистской модели религиозно организованного государства, центрированного вокруг категорий священного и Божественного закона. Другой вариант, сам состоящий из множества частных разновидностей, - ультранационализм. В качестве еще одного примера можно привести неоязыческую субкультурную традицию, фундированную на протестной расово-этнической идентичности. Впрочем, второй и третий примеры имеют сложную и запутанную культурную и идейную взаимосвязь.
Отвергая социальный номинализм и представления о синергетическом самоупорядочивании хаотического мира, экстремизм стремится к обретению трансцендентальной основы социума, но часто обманывается, принимая за нее некие воображаемые, фиктивные смыслы, расцениваемые как символы автохтонности, чистоты культуры и цельности. В особенности это характерно для светских движений. В эпоху господства симулякров четвертого типа и социальной реальности, стремительно трансформируемой в гиперреальность (Ж. Бодрийяр) [7], знаки и символы в культуре и идеологии становятся пустыми по значению. Символы экстремистских движений постмодернизма не имеют четкой культурной идентификации, не имеют под собой глубоко отрефлексирован-ной и логически понятной идеологической подосновы. Они вырваны из контекста и не обладают строго фиксированным смыслом. Нацистская свастика и подобные ей символы, «сходные до степени смешения», приветствие в виде вскинутой вверх руки, которые используют как неонацистские (националистические) группировки, так и радикальные неоязыческие группы - это означаемое без означающего, форма без содержания. Они не столько объективация какой-либо конкретной идеологемы, сколько воплощение мощного иррационального эстетического заряда, компенсирующего потребность причастности к силе, сплоченности и традиции.
Экстремизм в условиях постмодернистских ценностных координат во многом порожден самой господствующей системой культурных ориентиров. Одностороннее и ограниченное понимание экстремизма, сформировавшееся в европейской либерально-ориентированной (в плане ценностного мировосприятия) науке, - есть отражение позиции социального сингуляризма, то есть того дискурса власти, который и вызывает протест у той части социума, которая тяготеет к противоположной мировоззренческой установке и подвержена экстремистским настроениям. Состояние неопределенности, неустойчивости, скептицизма и ценностного релятивизма, легитимируемого в том числе и наукой, способно стать стимулом зарождения обратной реакции по упорядочиванию социальной реальности по принципу «монизма» и соответствующего типа социальной коммуникации. Помимо этого, в такой научной интерпретации экстремизм приобретает слишком широкие исторические и социальные границы. Скажем, общество, устроенное по монархическому принципу (модель коммуникации «типа дворца») или же как однопартийный политический режим, уже вызывает подозрения в «умеренности» его ценностно-идеологического фундамента. Всё это указывает на необходимость поиска более адекватной методологии и теоретического фундамента для дальнейших социально-философских исследований экстремизма в условиях неустойчивого, рискогенного общества и нахождения путей его преодоления.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-530.2014.6).
-
2. Генифе П. Политика революционного террора 1789–1794. М., 2003. 320 с.
-
3. Backes U. Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present // Central European Political Studies Review.
2007. Autumn. Vol. IX. Part 4. Р. 242–262.
-
4. Там же.
-
5. Там же.
-
6. Там же.
-
7. Baudrillard J. Simulacra and Simulations / trans. P. Foss, P. Patton and Ph. Beitchman. New York, 1983. 168 p.
Список литературы Экстремизм и научный образ экстремизма: столкновение мировоззренческих парадигм
- Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794. М., 2003. 320 с.
- Backes U. Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present//Central European Political Studies Review. 2007. Autumn. Vol. IX. Part 4. Р. 242-262.
- Baudrillard J. Simulacra and Simulations/trans. P. Foss, P. Patton and Ph. Beitchman. New York, 1983. 168 p.