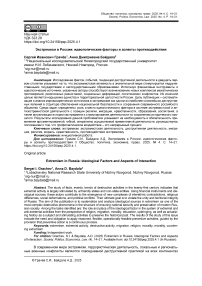Экстремизм в России: идеологические факторы и аспекты противодействия
Автор: Грачв С.И., Байдала А.Д.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование фактов, событий, тенденций деструктивной деятельности в двадцать первом столетии указывает на то, что экстремистская активность в значительной мере стимулируется недружественными государствами и негосударственными образованиями. Используя финансовые инструменты и идеологические источники, указанные акторы способствуют возникновению новых комплексов межэтнических противоречий, религиозных разногласий, социальных деформаций, политических конфликтов. Их конечной целью является нарушение единства и территориальной целостности России. Цель публикации - систематизация и анализ мировоззренческих источников в экстремизме как одном из наиболее сложнейших деструктивных явлений в структуре обеспечения национальной безопасности и сохранения современного российского общества. Среди задач определены: роль и место идеологического фактора в системе экстремистской и антиэкстремистской деятельности с позиции религии, миграции, нравственности, образования, воспитания, а также актуализации истории как предмета и стимулирования деятельности по сохранению исторического прошлого. Результаты исследования данной проблематики указывают на необходимость и обязательность применения аргументированной, гибкой, оперативно осуществимой превентивной деятельности, руководствуясь положением о том, что профилактическое воздействие - это непрерывный процесс.
Экстремизм, экстремистская деятельность, деструктивная деятельность, миграция, религия, мораль, нравственность, противодействие экстремизму
Короткий адрес: https://sciup.org/149148079
IDR: 149148079 | УДК: 323.28 | DOI: 10.24158/pep.2025.4.1
Текст научной статьи Экстремизм в России: идеологические факторы и аспекты противодействия
земного шара. Противодействие угрозам мирного существования человека, общества, страны становится одной из важнейших задач деятельности государственных структур, политических институтов, общественных и религиозных организаций, педагогического и научного потенциала современного государства. В рамках данного исследования мы не станем детализировать базовые концепты и уточнять разницу между террористической и экстремистской деятельностью. Они дополняют, поглощают, взаимно подменяют друг друга как в определениях, так и в сущностной составляющей данного рода преступного явления. К тому же в Указе Президента от 28.12.2024 № 1124 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации» указывается, что «…наиболее опасным проявлением экстремизма является терроризм»1.
Анализ деструктивных проявлений насильственного характера в России и положение Указа Президента РФ, констатирующее, что «…экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества …»2, позволяют нам выделить наряду с такими внешними экстремистскими угрозами, как «…поддержка, стимулирование и финансирование недружественными государствами и негосударственными образованиями экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ, нарушение единства и территориальной целостности России…»3, значительный перечень вызовов внутригосударственного характера, среди которых распространение идеологии насилия, формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов, проникновение в органы публичной власти лиц, распространяющих экстремистскую идеологию либо способствующих ее рас-пространению4, а также целый ряд упущений, недоработок, фактов формализма в системе управления, правосудия, правопорядка, обучения и воспитания молодого поколения.
Росту экстремистских (террористических) угроз в мире во многом способствует стремительное распространение экстремистской идеологии5, что в нашем измерении представляет собой совокупность радикальных установок и принципов, оправдывающих с теоретико-методологической и мировоззренческой точек зрения применение на практике насильственных способов борьбы для достижения главным образом политических целей под предлогом отстаивания интересов деструктивных групп той или иной направленности. В частности, мировоззренческие аспекты этнонационального экстремизма, одного из самых распространенных видов экстремизма в ХХI в., выражаются в виде национал-экстремистских, национал-шовинистских, национал-сепа-ратистских, расистских, этноконфессиональных, ксенофобских взглядов. Для данного вида экстремизма характерны эстетизация жестокости, сакрализация самопожертвования, догматизм, фанатизм, призывы к радикальной смене статуса-кво. Тем самым «из обывателя формируется фанатик идеи, ради которой он готов совершать любые преступления, будучи при этом убежден в полной своей правоте» (Грачев, 2020: 257). Кроме того, по мнению эксперта Л.Е. Васильева, «экстремистские идеологии оказываются привлекательными и для многих творческих, интеллектуальных и активных людей. Соблазн создать новый мир, построить общество всеобщего благоденствия в короткие сроки часто становится трудно преодолимым. Высокий интеллектуальный потенциал и политическая активность делают экстремистские движения и идеологии наиболее опасными для современного общества» (Васильев, 2017: 120). Таким образом, идеологический фактор в структуре насильственной деструктивной деятельности (экстремизм, терроризм, антиобщественные преступления, массовые беспорядки и т. п.) является определяющим. Соответственно, ведущими элементами в системе противодействия экстремистской деятельности должны выступать антидеструктивные (антиэкстремистские, антитеррористические) мировоззренческие факторы, которые содержат духовно-нравственные, культурные, патриотические основы и которым, при значительном объеме научных изданий в системе превентивной составляющей в структуре антиэкстремизма (антитерроризма), отводится не столь значительное внимание, как правовым, политическим, социальным, экономическим аспектам. Поиск истины в данной проблематике явился ведущей задачей нашего исследования, где в качестве методологической основы был определен диалектический метод познания общественных явлений, а источниками послужили Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Россий ской Федерации» , научные статьи, монографии, материалы интернет-сайтов.
В современной России продолжают распространяться экстремистские течения, базирующиеся на идеологии религиозного фанатизма, чаще всего прикрываемого исламской догматикой.
Или, как верно заметил исследователь проблемы С.И. Чудинов: «Экстремистская идеология, легитимирующая себя в рамках религиозной традиции, есть не что иное, как переосмысление и новая идеологизированная интерпретация богословских категорий и духовных ценностей традиционного ислама, подстроенная под конкретные политические и военно-тактические задачи» (Чудинов, 2016: 31).
В Указе Президента о противодействии экстремизму в РФ отмечается, что «…в число опаснейших проявлений экстремизма входят разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти, вражды или розни, пропаганда исключительности , превосходства либо неполноценности человека по признакам его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии , в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям»1. Примеров этому, к сожалению, немало только за последние годы. Так, 29 октября 2023 г. произошли массовые беспорядки (экстремистские действия) в Махачкале на почве антисемитизма2. 23 июля 2024 г. в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили серию нападений на синагоги, церкви и пост ДПС. Были сожжены две синагоги, повреждены две православные церкви. Погибли 22 человека, среди них протоиерей Н. Котельников. 28 августа 2024 г. в Назрани и селении Кантышево были задержаны шесть приверженцев запрещенной на территории России организации. Они планировали проведение диверсионно-террористических акций против сотрудников правоохранительных органов и религиозных объектов3. Днем ранее, 27 августа 2024 г., в ходе выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе секретарь Совбеза России С. Шойгу заявил: «В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности. В регионе имеются противоречия религиозных общин, которые обостряются под влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личных амбиций отдельных руководителей официальных религиозных организаций»4.
За год до этого председатель Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов после массовых беспорядков в Махачкале заявил: «Распространение вредоносной и опасной для нашей страны радикальной идеологии идет полным ходом уже более десяти лет, но особенно активен этот процесс последние пять лет. Активизировался он по всей стране, но, в первую очередь, в мусульманских республиках»5. Лейтмотивом сказанному К. Кабановым являются события в Казани. 18 сентября 2024 г. «…ФСБ РФ сообщила о задержании в столице Республики Татарстан женской ячейки международной террористической группировки, которая вербовала в свои ряды россиянок. Члены организации распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата. Ячейка существовала пять лет»6. Возникает вопрос: почему деятельность группы не была пресечена на ранней стадии и пришлось ждать пять лет? Тем более что муж Р. Ваисовой (одна из организаторов ячейки запрещенного в России террористического формирования «Хизб ут-Тахрир аль Ислами») в 2018 г. приговором Приволжского окружного военного суда был лишен свободы на 16 лет за участие в деятельности той же организации. Вероятно, велась длительная и тщательная разработка каналов, связей, намерений и т. п., что требует обязательных и обстоятельных разъяснений российским гражданам, которые не обладают познаниями в области оперативно-разыскной деятельности и весьма озабочены в наши дни проблемами личной и национальной безопасности.
В данном контексте следует отметить, что в Указе Президента, где речь идет об опаснейших проявлениях экстремизма, в одном предложении указаны такие его направления, как национальная и религиозная ненависть, вражда или рознь. Механизмы мобилизации национального (этнона-ционального) и религиозного фундаментализма, радикализма и фанатизма во многом имеют идентичную основу, тем более что конфессиональная принадлежность чаще всего входит в набор критериев этнонациональной самоидентификации. Это указывает на дальнейшую актуализацию и консолидацию процесса диффузии этнонационального и религиозного детерминантов как в экстремистской идеологии, так и террористической деятельности. Поэтому, разрабатывая превентивные методики, следует в обязательном порядке руководствоваться положениями того, что каждый значительный этнос, исповедующий ту или иную религию, вносит в ее бытовой формат свое разнообразие и, соответственно, конфессиональное становится частью национального. Данное положение следует учитывать при создании методических и лекционных материалов и в аудиторной работе.
Существенной областью проявления экстремистских действий и иного рода деструктивной деятельности в России является миграционная сфера, где негативным событиям в значительной мере способствует действующая, но пока еще предметно недоработанная и, соответственно, окончательно не утвержденная правовыми регламентами новая миграционная политика. К тому же недостаточно контролируемый миграционный процесс ведет к постоянному увеличению количества национальных анклавов (временами недосягаемых для оперативного внимания правоохранительных органов), расширению преступности уголовного характера, сращиванию с другими этнонациональными экстремистскими группировками. В миграционных потоках нередко присутствуют законспирированные экстремистские элементы, поддерживающие связь с террористическими организациями на родине и члены так называемых спящих ячеек. В материалах Указа Президента «О Стратегии противодействия экстремизму в РФ» отмечается: «Одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, является неблагоприятная ситуация с противоправной деятельностью мигрантов , которая оказывает негативное влияние на межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения, нарушает исторически сложившийся национальный и религиозный баланс в ущерб безопасности российского государства. Трудовые мигранты вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи …»1.
Правоохранительная практика указывает на то, что Россия сталкивается с очень серьезными проблемами, создаваемыми миграцией и, в первую очередь, нелегальной, которая, кроме прочего, активно используется для осуществления экстремистской деятельности. Подтверждением этому служит заявление председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина: «Число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами, увеличилось. Зачастую правонарушения совершают мигранты, которые находятся в России на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по ее территории и систематически игнорируют предписания миграционного законода-тельства»2. К тому же незаконная коммерческая деятельность, коррупционный подкуп, информационно-психологическое давление на административные структуры, осуществляемые мигрантами, обостряют социально-политическую ситуацию, экономическое положение, криминальную обстановку как в отдельных регионах России, так и в стране в целом, провоцируют этнические, социальные, религиозные и иного рода противоречия и конфликты. Очевидно, что нелегальные мигранты «питают» теневую экономику и пополняют криминальную среду, создавая этнические преступные формирования. Подтверждением этому служат слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенные на Епархиальном собрании духовенства: « Всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию»3.
С начала XXI века на фоне увеличения миграционных потоков, а также активно, хотя иногда и безграмотно проповедуемой политики толерантности, формирование диаспор приобрело экспан-сионный характер. Эти сплоченные и устойчивые этнические группы состоят из представителей коренного населения бывших республик СССР, преимущественно среднеазиатских, и государств Большого Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии. Как заметил политолог С.И. Чудинов, «…менее модернизированные и индивидуализированные выходцы с Востока, в принципе, склонны к созданию этнических “сетевых структур” с иерархическим началом» (Чудинов, 2016: 27). Данного рода этнонациональные структуры весьма сложно поддаются интеграции, а тем более ассимиляции. Единение этнонационального и религиозного делают диаспоры более закрытыми для внешнего мира и устойчивыми от влияния извне. Соответственно, расширяются риски возникновения новых комплексов межэтнических противоречий, социальных деформаций, политических конфликтов, постепенно преобразующихся в экстремистскую деятельность. Значительным фактором также является нежелание мигрантов, прибывших в Россию даже на продолжительный срок пребывания или постоянное проживание, не только интегрироваться в российское общество, но и соблюдать культурные, нравственные, религиозные и иные обычаи и традиции народа нашей страны. В октябре 2023 г., обсуждая данного рода проблему во время встречи со студентами МПГУ, Владыка Кирилл отметил, что Россия может утратить свою культурную идентичность в случае, если культура трудовых мигрантов начнет доминировать. Развивая тему, Святейший указал: «Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность»1. Далее он пояснил, что говорит о тех трудовых мигрантах, которые, приезжая в Россию на заработки, зачастую не знают русский язык и не имеют уважения к нашей стране, российскому народу, обычаям, нравам. Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей отмечали, что «…почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат. Готовы отстаивать свое право жить по закону шариата в ходе протестов»2. Данное мнение продолжает распространяться и внедряться в сознание отдельных категорий российских мусульман. Так, в августе 2024 г. секретарь Совета безопасности России С. Шойгу на выездном заседании в Северо-Кавказском федеральном округе заявил, что «особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов»3.
Анализ фактов, событий, тенденций деструктивной деятельности в XXI столетии указывает на то, что экстремистские действия происходят в том числе и в результате непрофессиональной деятельности или бездействия представителей администрации и правоохранительных органов. К тому же длительное время на территории России исповедовался принцип толерантности, что воспринималось и пока, к сожалению, в ряде случаев продолжает восприниматься мигрантами как «вседозволенность». Данный порядок практиковался (кое-где используется и до сих пор) в студенческой среде российских вузов. В частности, с учетом их слабого уровня общих знаний учебный процесс для них проходил в так называемом щадящем режиме. Это способствовало формированию у них мнения о неприкасаемости, этнической исключительности и вседозволенности, что, в свою очередь, стимулировало к совершению противоправных действий. Ряд экспертов на многих форумах и уровнях неоднократно заявляли, что «…следует отказаться от употребления в документальном обороте и практической деятельности от термина “толерантность”, который понимается как терпимость ко всему…, а значит, и к деструктивным действиям, в том числе и насильственным» (Грачев, 2020: 258). Возможно, данная точка зрения, а также статистика уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, включая террористический акт в «Крокус Сити Холле» 22 апреля 2024 г., убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника 17 декабря 2024 г. и целый ряд других преступлений экстремистского (террористического) характера, явились реальными триггерами изъятия данного выражения из повседневного административного устного и документального оборота. Кроме того, среди основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму в области государственной миграционной политики в Указе Президента РФ обозначено: «…совершенствование миграционного законодательства [02.04.2025 г. Президентом был подписан Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции»],… и реализация мер, направленных на недопущение проникновения членов иностранных и международных экстремистских сообществ и террористических организаций на территорию Российской Федерации в миграционных потоках»4. Хочется верить, что использование законодательных регламентов, применение в действии положений уголовного и административного права будут активно способствовать тому, что прибывающие на территорию России мигранты с осторожностью будут относиться к сомнительным предложениям и реже будут становиться субъектами экстремистской, террористической и иного рода преступной деятельности, а приносимая ими культура и мораль не будут стремиться к доминанте в российском обществе.
Среди значительных причин, способствующих существованию экстремизма в наши дни, пока еще остается наследие нравственно и физически разрушительных деструктивных направлений, получивших свое начало и распространение в 90-е годы прошлого столетия. Внедренные в ментальность россиян жестокость, безнравственность, допустимость применения силы создали благоприятную почву для распространения экстремизма и, соответственно, противодействовали формированию гражданственности, нравственности, патриотизма в сознании личности. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном из выступлений отмечал: “Воспитание нравственности должно стать столь же важной задачей, как и передача знаний. Однако в наше время мы наблюдаем, что образование склонны трактовать неоправданно узко, исключая из него воспитательный момент. … Благополучие общества во многом зависит от того, основывается ли информирование зрителя, читателя, слушателя на заботе о нравственном состоянии личности и общества, раскрываются ли положительные идеалы в СМИ, присутствует ли в них осуждение порока и зла”» (Павлинов, Быба, 2010: 62–63). И действительно, российская система образования (просвещения) весьма длительный промежуток времени (более 30 лет) практически не уделяла в должной мере внимания вопросам морально-нравственного и культурного воспитания молодежи. Хотя одним из основных компонентов в формировании гражданского самосознания, да и личности в целом, всегда выступал союз образования и воспитания (Грачев, Иванов, 2022: 85).
Летом 2023 г. в одном из своих выступлений министр просвещения РФ С. Кравцов заметил, что «в 90-е гг. … система воспитания была исключена из школы, а школьное образование рассматривалось как услуга. И сегодня мы строим суверенную систему образования. … Наша ответственность за детей до 18 лет, чтобы они получали качественное образование и воспитывались на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, знали историю и культуру»1. На наш взгляд, это разумное решение. Качественное образование можно организовать оперативно: подготовить универсальные учебники, выпустить соответствующие программы. Однако «вложить» духовное начало в сознание человека, воспитать уважение к старшим, сохранить любовь к отечеству значительно сложнее, чем утратить это. Здесь нужны личные примеры родителей, педагогов, общественных деятелей, государственных служащих. Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский писал: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания» (Ушинский, 1988: 191).
«Духовно-нравственное воспитание в высшей школе показывает необходимость говорить не только о духовно-нравственном воспитании, но и о духовно-нравственном образовании. Это является особенно актуальным в связи с развитием все более многонациональных коллективов школьных классов и студенческих аудиторий, где семьи многих школьников, студентов не являются сопричастными традиционным российским ценностям и культуре…», – отметил в одном из своих выступлений ректор РУДН В.М. Филиппов (VI Рождественские парламентские встречи…, 2018: 17). Слова Святейшего, прозвучавшие в Санкт-Петербургском госуниверситете, являются продолжением ранее сказанного: «Для должного развития современного отечественного образования важное значение имеет возрождение его воспитательной составляющей. Обнадеживает возвращение в современное высшее образование понимания того, что всегда было свойственно отечественной интеллигенции, – единства интеллектуального и нравственного начал»2. На наш взгляд, комментарии в обоих случаях излишни. Не хотелось бы, чтобы задуманное осуществлялось в ускоренном темпе, ради формальности и отчетности, нужны и важны постепенность, разумность и постоянство. «Ведь самое “злое зло” не в противостоянии добру, а в его подмене, разъедании изнутри, когда зло прикидывается моральной нормой» (Кутырев, 2022: 74).
Одним из ведущих источников в идеологическом детерминанте такого деструктивного явления, как экстремизм, и одновременно в системе морально-нравственного воспитания молодых людей, а значит, превентивной составляющей механизма антиэкстремистской деятельности, является предмет «История», который в действительном отражении несет истинные, а не ложные знания (представления) молодым людям о прошлом в стране и мире. К тому же в наши дни «реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне, возрождению идей нацизма и фашизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов и их пособников»3. В моральнонравственном отношении история является нашим учителем жизни. Она не только дает пищу для размышлений и делает человека патриотом своей страны, но и учит мирному сосуществованию между людьми, верной реакции на призывы и чаяния окружающих, предметному анализу и выводам о деструктивной деятельности в регионе, стране, мире. Одной из ведущих задач государственной политики в сфере противодействия экстремизму является «организация основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях информационного противодействия распространению экстремистской и иных деструктивных идеологий и повышение уровня патриотизма населения Российской Федерации»1.
Предметный анализ рассматриваемой проблемы указывает на необходимость решения целого ряда задач как на государственном, так и на местном уровне, среди которых следует выделить системный мониторинг, анализ и оценку информации об эволюции политических, экономических, социальных, религиозных, миграционных и иных процессов, формирующих причинный комплекс и условия для организации и развития экстремизма (терроризма). Учитывая, что мотивационной основой экстремистской деятельности является деструктивная идеология, необходимо активизировать системное противодействие пропаганде идей экстремизма, что наиболее эффективно, по нашему мнению, через систему духовно-нравственного воспитания и образования молодых людей. Иначе виртуальная реальность будет предлагать только иллюзорные духовно-нравственные ценности и, соответственно, малоэффективную систему противодействия экстремизму.
Принимая во внимание, что миграция (в особенности – нелегальная) в ряде случаев является платформой в области экстремистской, террористической и иного рода деструктивной деятельности, необходимо постоянное осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения экстремистской идеологии в местах временного нахождения и постоянного проживания мигрантов. Превентивную деятельность следует организовывать и проводить с учетом национальных особенностей и религиозных направлений народа, прибывшего на ту или иную территорию, доводя до его внимания правовые форматы, национальные и нравственные традиции и нормы, действующие в России. К данной работе должны привлекаться специалисты-этнографы, религиоведы, регионоведы, правоведы высокого уровня, организационно сопровождаемые представителями правоохранительных органов и местной администрацией.
Развитие коммуникационного и нормативного обеспечения в системе противодействия экстремизму и террористической деятельности требует продуманной, аргументированной, гибкой, оперативно осуществляемой превентивной работы. Государство, общественные и религиозные институты, учебные учреждения, деятели культуры и искусства обязаны активизировать усилия в противодействии антагонистическим информационно-пропагандистским устремлениям из-за рубежа, стимулировать работу по сохранению исторического прошлого, культивировать процесс формирования истинных мировоззренческих ценностей в российском обществе. Данный процесс должен быть целенаправленным, постоянным и последовательным.
Список литературы Экстремизм в России: идеологические факторы и аспекты противодействия
- Васильев Л.Е. Борьба с терроризмом на пространстве ШОС: монография / отв. ред. Ю.В. Морозов. М., 2017. 216 с.
- Грачев С.И. Государство, власть, общественные институты в системе противодействия экстремизму // Власть в XXI веке. Социокультурные аспекты политических процессов: монография / под общ. ред. М.И. Рыхтика, А.Н. Фортунатова. Н. Новгород, 2020. С. 256-268. EDN: HYRBUV
- Грачев С.И., Иванов Н.А. Экстремизм и антиэкстремизм: факторы эволюции и проблемы противодействия // Вызовы национальной и региональной безопасности: анализ и решения: сб. статей Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Р.Г. Минзарипова. Казань, 2022. С. 82-87.
- Кутырев В.А. Человек технологий, цивилизация фальшизма. СПб., 2022. 288 с.
- Павлинов А.В., Быба А.И. Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи. Владимирский опыт: вопросы и ответы / под общ. ред. В.Ю. Картухина. Владимир, 2010. 73 с.
- Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. М., 1988. Т. 1. 416 с.
- Чудинов С.И. Экстремизм в глобальном обществе риска: монография. М., 2016. 172 с.
- VI Рождественские парламентские встречи // Вестник Совета Федерации / гл. ред. Н.Ю. Шпаков. 2018. № 2. 96 c.