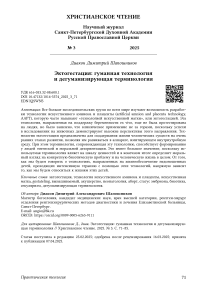Эктогестация: гуманная технология и дегуманизирующая терминология
Автор: Диакон Димитрий Шапошников
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Все больше исследовательских групп во всем мире изучают возможность разработки технологии искусственного амниона и плаценты (artificial amnion and placenta technology, AAPT), которую часто называют «технологией искусственной матки», или эктогестацией. Эта технология, направленная на поддержку беременности ex vivo, еще не была протестирована на людях, но было заявлено, что клиническое применение не за горами, поскольку успехи в исследованиях на животных демонстрируют высокие перспективы этого направления. Технология эктогестации предназначена для поддержания жизни человеческих существ на очень ранних этапах развития, позволяя им развиваться в аппарате, имитирующем внутриутробную среду. При этом терминология, сопровождающая эту технологию, способствует формированию у людей этической и моральной дезориентации. Это имеет большое значение, поскольку используемая терминология влияет на шкалу ценностей и в конечном итоге определяет моральный взгляд на конкретную биоэтическую проблему и на человеческую жизнь в целом. От того, как мы будем говорить о технологиях, направленных на жизнеобеспечение недоношенных детей, проходящих интенсивную терапию с помощью этих технологий, напрямую зависит то, как мы будем относиться к жизням этих детей.
Эктогестация, технология искусственного амниона и плаценты, искусственная матка, gestateling, вынашиваемый, акушерство, неонатология, аборт, статус эмбриона, биоэтика, секуляризм, дегуманизирующая терминология
Короткий адрес: https://sciup.org/140312293
IDR: 140312293 | УДК: 616-053.32-08:608.1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_71
Текст научной статьи Эктогестация: гуманная технология и дегуманизирующая терминология
Одной из основных причин перинатальной смертности и заболеваемости во всем мире является крайняя недоношенность на пределе жизнеспособности плода [WHO, 2018; Patel et al., 2015].
В странах с высоким уровнем развития неонатологии большинство экстремально недоношенных детей получают высокоспециализированную неонатальную помощь. Эта помощь включает в себя реанимацию при рождении, респираторную поддержку, медикаментозное лечение. Уровень смертности у этой категории пациентов достаточно высок и имеет существенные различия даже среди высокоразвитых стран [Morgan, 2021]. В последние десятилетия много исследований было направлено на улучшение искусственной поддержки при рождении таких младенцев, но без существенных результатов в долгосрочных наблюдениях [WHO, 2012; Cheong, 2020].
Одна из технологий, которая привлекает большое внимание в последнее время, — это технология искусственного амниона и плаценты (artificial amnion and placenta technology, AAPT). Это технология, которая в будущем может способствовать появлению радикально иного, альтернативного варианта лечения недоношенных детей по сравнению с традиционной неонатальной помощью. В литературе для обозначения этой технологии пока нет устоявшегося термина и используются такие выражения, как «технология искусственной матки» (artificial womb technology, AWT), «терапия во внематочных условиях для неонатального развития» (Extrauterine Environment for Neonatal Development therapy, EXTEND), «терапия в условиях матки ex-vivo» (ex-vivo uterine environment therapy, EVE), «биосумка», «перинатальное жизнеобеспечение» (perinatal life support, PLS) [Partridge, 2017a; Partridge, 2017b; Usuda et al., 2019; van Haren et al., 2021].
Все эти термины используются для описания одной технологии, воспроизводящей функции амниотического мешка, амниотической жидкости и плаценты и направленной на поддержание ребенка в физиологическом состоянии, которое должно воспроизводить состояние плода во время беременности.
В основном описывается два варианта развития этой технологии. Первый вариант — это «эктогестация», которая представляет собой форму интенсивной терапии новорожденных, когда только часть периода беременности проходит в искусственной матке. Второй вариант — это «эктогенез», когда в искусственной матке проходит весь период беременности. Вполне вероятно, что в каком-нибудь виде эктогестация на последних неделях или месяцах беременности может стать возможной в течение десятилетия или около того, в то время как эктогенез для человека, скорее всего, еще долго останется доступным только в теории [Rodger, Blackshaw, 2024, 85].
Технология эктогестации
Задачей этой новой технологии является повышение выживаемости младенцев, родившихся на грани жизнеспособности, снижение частоты осложнений и тяжелой инвалидности, улучшение качества жизни крайне недоношенных детей. Технология пока не была испытана на людях, но показывает многообещающие результаты на животных.
В рамках исследований, ведущихся параллельно с разработкой технологии эктогестации, удалось вырастить оплодотворенные мышиные ооциты с 0-го дня развития в течение 11 дней в системе культуры ex utero [Aguilera-Castrejon et al., 2021; Kolata, 2021].
В исследованиях на животных за последнее десятилетие были получены данные о различной степени успеха, в основном в экспериментах на овцах и ягнятах. После разреза матки плод ягненка перемещается из матки овцы в окруженную герметичной мембраной среду, заполненную искусственной амниотической жидкостью, где и происходит продолжение беременности. Самые последние шаги в этом направлении — появившиеся исследования на свиньях, которые ближе к человеку по размерам, параметрам созревания мозга и физиологии пуповины [Charest-Pekeski et al., 2021].
Многие современные исследования направлены на фундаментальное изучение самых ранних стадий эмбриогенеза, которые в будущем непременно перейдут в исследования человеческих эмбрионов ex utero. Далее возникнут вопросы о том, не превышают ли негативные последствия таких исследований их возможную пользу, а также о том, «допустимо ли с этической точки зрения прерывать жизнь субъектов этого направления эктогестационных технологий» [Baron, 2021].
Можно предположить, что первой, скорее всего, будет разработана именно эктогестация как наиболее перспективная альтернатива неонатальной интенсивной терапии, поскольку у этого направления есть четкая клиническая цель. Соответственно, именно в связи с развитием и распространением эктогестации раньше и острее встанут связанные с ней этические вопросы.
Когда эта технология начнет применяться на людях, она позволит обеспечить органам ребенка (в первую очередь легким) развитие до того этапа, на котором можно будет избежать основных причин очень ранней неонатальной смертности или развития тяжелых заболеваний у младенцев, родившихся на пределе жизнеспособности. В случае успеха такой подход даст ряд преимуществ по сравнению с использованием стандартного блока неонатальной интенсивной терапии. Как альтернатива для всей беременности от начала до конца этот метод не рассматривается, так как для него необходимо наличие развитой сердечно-сосудистой системы плода, поэтому использование возможно только после срока 20 недель. Текущее состояние развития неонатологии таково, что в ближайшее время для имплантации эмбриона и для раннего развития зародыша и плода беременность in vivo, скорее всего, останется незаменимой.
Медицинская практика и научные исследования часто сочетаются друг с другом, и иногда бывает сложно провести грань между тем и другим. Несомненно, это будет сложно и при начале экспериментального клинического применения эктогестации на людях. Пациенты, которым будет предложено принять участие в исследовании, будут знать о статистических данных в обычной реанимации, вследствие чего могут выбрать эктогестацию из-за завышенных ожиданий относительно результатов этого метода. Они могут не осознавать, что цель исследования — это прежде всего получение знаний на благо будущих пациентов [Sheppard, 2016].
Терминология эктогестации
По мере совершенствования этой технологии очень скоро встанет вопрос терминологии, описывающей все, что будет происходить при применении на людях. Эта терминология будет касаться общественных вопросов, основных человеческих ценностей и достоинств, правового и морального статуса плода. Эта терминология будет формировать отношение к вынашиваемому ребенку и к беременности в контексте новой биомедицинской технологии.
Правильное понимание новой технологии важно для того, чтобы ее обсуждение было эффективным и полезным для общества. Поэтому правильная, объективная и адекватно сформулированная терминология имеет принципиальное значение. Выбор терминов для появляющейся биотехнологии может повлиять на ее моральноэтическую оценку. Поэтому терминология является важным фактором и сама по себе может быть предметом обсуждений и споров [Loike, 2014].
Технологию эктогестации, о которой идет речь, часто описывают как «искусственную матку», что у многих вызывает непонимание, смущение или тревогу. Было отмечено, что этот термин вводит в заблуждение, поскольку технология не имитирует все сложные функции матки, и из-за буквального понимания этот термин может вызывать крайне нереалистичные представления о том, на что способна эта технология [Verweij et al., 2021]. Это приводит к тому, что эктогестация рассматривается как замена всей беременности или даже женщины как таковой. При этом клиническое значение альтернативного подхода к интенсивной терапии новорожденных, находящихся на грани жизнеспособности, отходит на второй план.
При изучении литературы, посвященной эктогестации, обратила на себя внимание сосредоточенность некоторых исследователей на том, что после завершения разработки этой технологии понятия «эмбрион», «плод» и «новорожденный» могут перестать быть достаточными в качестве моральных, социальных и правовых категорий, связанных с развитием младенца. Разные авторы используют свои собственные термины для определения детей, в отношении которых будет применяться эта технология, например предлагается термин «фетонат» [De Bie et al., 2023]. Э. Романис предлагает называть существо, чья жизнь поддерживается при помощи эктогестации, не плодом, не ребенком, а «gestateling» (ближайший аналог на русском, видимо, «вынашиваемый») [Romanis, 2018]. Это предложение уже продвигают и другие авторы: «Плоды и вынашиваемые не являются теми, кто рожден путем физиологических изменений и имеют физиологию и характеристики плода. Новорожденные, напротив, рождены путем физиологических изменений и имеют физиологию и характеристики новорожденного. В отличие от плода, вынашиваемых объединяет с новорожденными то, что они „рождаются из-за изменения местоположения“, а следовательно, существуют не внутри материнского тела, а вне его» [Kingma, Finn, 2020].
Разработчики новой терминологии утверждают, что термин «вынашиваемый» имеет этико-правовой контекст, чтобы отличать его от существующих терминов с нормативным содержанием (таких как «плод», «новорожденный», «младенец»), которые «слабо подчеркивают уникальность вынашиваемого» [Segers, Romanis, 2022, 2213].
Э. Романис, которая навязчиво пытается ввести в оборот терминологию, дегуманизирующую ребенка, переживающего неонатальную терапию в условиях эктогестации или «искусственной матки», не соглашается поменять свою позицию, даже встретившись с работами, в которых критикуется ее желание воспринимать ребенка, находящегося в условиях эктогестации, не как плод, эмбрион или недоношенного/ новорожденного ребенка, а как некую иную сущность.
Романис исходит из того, что основополагающее значение имеет местонахождение развивающейся человеческой сущности, потому что, когда она находится внутри беременной женщины, это оказывает на женщину значительное влияние. Эта точка зрения основана на основополагающем в секулярной биоэтике принципе автономии. Согласно ему не может быть никаких сомнений в необходимости уважать субъективные предпочтения беременной и позволять ей принимать любые решения относительно своего тела и родов. При этом общим местом идеологов автономии и прав человека давно стало утверждение о том, что ребенок во время внутриутробного развития является частью организма женщины (что совершенно антинаучно). Сосредоточение же на значении и интересах плода в этой системе ценностей считается игнорированием того факта, что решения о беременности влияют на автономию беременной. Если же ребенок не находится внутри тела беременной женщины, то это якобы принципиально иная сущность, поскольку здесь нет непосредственной связи с автономией и переживаниями женщины, а значит, по мнению этого автора, ценность плода снижается до такой степени, что даже «плодом» его называть больше нельзя и нужно придумывать новые термины.
Понять, почему деятельность по созданию новой терминологии имеет черты дегуманизации нерожденных детей, отчасти можно, процитировав определение беременности, которое Романис приводит в одной из своих статей: «Важно отметить, что беременность — это состояние, которое может испытывать любая личность с репродуктивной биологией, позволяющей ей забеременеть (женщина), вне зависимости от гендерной идентичности. В этой статье я обычно говорю о беременных людях, а не о беременных женщинах, чтобы отразить этот факт. Однако здесь я говорю о выборе, который должен быть предоставлен женщинам, потому что подавляющее большинство людей, переживающих беременность, идентифицируют себя как женщины, а это сильно влияет на социальный опыт беременных и выбор прерывания беременности, и это решение должно быть сформулировано так, чтобы в центре были они, а не плод/вынашиваемый» [Romanis, 2019, 729].
Такое определение беременности несет на себе отчетливый отпечаток манипулятивной либеральной идеологии «прав человека», поэтому ничего удивительного нет в том, что придерживающийся столь абсурдных антинаучных и политизированных взглядов автор уверенно пишет о «вынашиваемых».
За последние годы в связи с развитием новых биомедицинских репродуктивных технологий в подобной тональности вышло большое количество статей о «статусе эмбриона». В большинстве таких работ содержится и раскрывается одна и та же мысль — будто бы современная наука не знает и никогда не знала, является ли эмбрион человеком, или нет. А если является, то с какого срока и почему. Академическая дискуссия вокруг «статуса эмбриона» ведется без использования христианских смыслов и общепринятых в христианском сообществе понятий.
В глазах людей, проживающих свои жизни на основе Евангелия, деятельность апологетов репродуктивных технологий представляется как либеральная секуляри-стская пропаганда дегуманизации нерожденных детей с целью их дальнейшего использования (включая умерщвление) в научных и коммерческих целях без осуждения обществом. Сторонники же научных и коммерческих действий с человеческими эмбрионами видят в христианах дремучих мракобесов, стоящих на пути развития современного высокотехнологичного общества потребления. В этом суть конфликта традиционного христианства с доминирующей светской идеологией при обсуждении зачатия и ранних сроков беременности.
Появление на научном горизонте новой технологии, связанной с эктогестацией, вывело секулярную биоэтическую мысль на новый уровень. Теперь, по мнению либеральных светских авторов, эмбрион или плод, помещенный в искусственный амниотический пузырь или матку, не должен называться эмбрионом, поскольку это якобы принципиально другая сущность. И вот на наших глазах появляются работы, в которых обсуждается «статус субъекта эктогестации» или «статус субъекта AAPT». Продолжаются академические дебаты о правовом и моральном статусе «субъекта AAPT». После публикации первых результатов EXTEND-терапии и значительного внимания, которое она привлекла к себе в публичной сфере, возник целый пласт этико-правовой литературы, более сфокусированной на частичной эктогестации, где центральным вопросом является вопрос о том, как концептуализировать «субъекта AAPT». Если предположить, что «субъект AAPT» обладает правами ребенка, то с ним нужно обращаться только в его наилучших интересах. Если же «субъект» имеет юридические права, как у плода, то в случае согласия женщины, которая его раньше вынашивала, могут быть допустимы медицинские исследования на «субъекте», даже если второй родитель против [Romanis, 2018, 2019].
Утверждается, что существует четкая концептуальная разница между эктогестацией и обычной неонатальной реанимацией из-за различий в функциях этих технологий, а также в поведении, физиологии и физическом состоянии «субъекта» [Romanis, 2018, 2019, 2020]. Эта разница заключается в том, что эктогестация продолжает и поддерживает течение беременности ex utero, а не заставляет «субъекта» совершить переход от внутриутробной физиологии к взаимодействию с внешней средой [Kingma, Finn, 2020].
И именно на этом основании детей, неонатальная помощь которым будет осуществляться в условиях эктогестации, предлагается считать принципиально иными «сущностями» по сравнению с теми, чьи реанимация и лечение будут проводиться в отделениях обычной интенсивной терапии недоношенных детей. К сожалению, идеологическая и пропагандистская составляющая этих статей зачастую превышает их научную значимость и правдивость. Возможно, задача этих публикаций именно в превентивной дегуманизации детей, на которых в будущем эта технология будет испытана. Если бы у женщины, беременной двойней, понадобилось спасать одного из близнецов с помощью эктогестации, а второй остался бы в естественном внутриутробном состоянии, то, согласно таким взглядам, один из близнецов вдруг перестал бы быть человеческим существом, человеческим эмбрионом, плодом, а стал бы вдруг некоей новой «сущностью» — «вынашиваемым». И невзирая на то, что у этих близнецов остались бы идентичная ДНК и все физиологические параметры, один из них должен бы был перестать считаться человеком, потому что такую позицию продвигают либеральная пропаганда и секулярная биоэтика.
Представим себе, что при разработке методики замещения газообменной функции легких и насосной функции сердца пациентов, подключенных к аппарату искусственного кровообращения (АИК), кто-нибудь предложил считать их не людьми, а некими другими существами лишь на том основании, что между собственным кровообращением и кровообращением при помощи АИК существует концептуальная разница. Эта логика кажется (пока?) абсурдной в отношении взрослых людей, но будучи примененной к нерожденным детям, она находит понимание и сочувствие в научном сообществе. Это так, поскольку статей, поддерживающих эти взгляды, опубликовано множество, и их все кто-то написал, кто-то принял в печать и отрецензировал, кто-то опубликовал, а кто-то прочел и воспринял содержащуюся в них идеологию расчеловечивания нерожденных детей как часть мировоззрения, которое понес далее — коллегам, близким, друзьям и ученикам. И собственным детям.
Терминология и отношение к нерожденным детям
Простой на первый взгляд вопрос о терминологии играет важную роль в правильном понимании технологии. Так считают и секулярные исследователи, и даже утверждают, что это необходимо «для всех заинтересованных сторон» [Segers, Romanis, 2022, 2213]. Однако анализ современной литературы по этому вопросу показывает, что заинтересованной стороной чаще всего является только та часть общества, для которой характерен моральный релятивизм.
Поскольку в настоящее время этико-правовые аспекты эктогестации еще не проработаны, в ближайшем будущем все описанное выше, вероятно, будет иметь значение для этики и права. Эмбрионы, плоды и новорожденные различаются по своему правовому статусу, а их моральный статус является предметом споров.
Крайне необходимая в этом вопросе концептуальная ясность, позволяющая выделить уникальные этические вопросы, связанные с использованием новой биомедицинской технологии, достижима, только если вводимый в обращение термин не будет носить манипулятивного характера, не будет расчеловечивающим и обманывающим.
Реальность такова, что современные законы в большинстве стран устанавливают четкое разграничение понятий «плод» и «ребенок». Плод имеет ограниченные юридические права, а новорожденный ребенок обладает всеми теми же правами и защитой, что и взрослый человек.
В биоэтической литературе уже ведутся споры о том, «что представляет собой объект, находящийся в беременности ex utero, как к нему следует относиться и как его следует называть» [Segers, Romanis, 2022, 2208]. Участники дебатов отмечают, что это важный вопрос, поскольку «официально зафиксированный правовой и моральный статус такого существа будет определять, как с ним можно обращаться и при каких обстоятельствах» [Segers, Romanis, 2022, 2208].
Комментаторы, утверждающие, что ребенок в рамках технологии эктогестации представляет собой какое-то уникальное, до сих пор не существовавшее образование, сознательно или нет, не уточняют, каково может быть моральное отношение к этому «образованию». Некоторые, однако, откровенно говорят, что есть этические соображения, превышающие ценность жизни этого «образования», например беременная женщина, чья моральная ценность совершенно точно является четкой и высокой [Kingma, Finn, 2020; Kingma, 2019; Romanis, 2019].
Основанное на «автономии» и «правах человека» понимание ценности жизни нерожденного ребенка в либеральной системе координат, с одной стороны, позволяет предположить, что «он [вынашиваемый] может иметь больше защиты, чем плод, так как это не повлияет на телесную автономию беременной [после того как он окажется в искусственной матке]», но при этом же делается заявление о том, что «он должен иметь меньше защиты, чем полноценно рожденный ребенок, так как он не имеет аналогичного социального положения» [Segers, Romanis, 2022, 2214].
Достаточный объем такого рода «академических дискуссий» ведется вокруг вопроса о том, как следует относиться к «субъекту эктогестации». Существенный объем обсуждений посвящен тому, чем «субъект эктогестации» может отличаться от плода. Одно из отличий, например, заключается в том, что обычно для аборта достаточно решения только беременной женщины, а в случае с «субъектом эктогестации» этих оснований для его умерщвления может оказаться недостаточно, и это тревожит светских специалистов. Возможно, речь пойдет о принятии совместного решения обоими генетическими родителями, что воспринимается как угроза правам любительниц абортов. Кстати, для описания убийства «субъекта эктогестации» термин «аборт» решили тоже не использовать и изобрели слово «гестатицид» («убийство вынашиваемого») [Räsänen, 2017; Brassington, 2009].
Некоторые комментаторы утверждают, что «гестатицид» морально эквивалентен детоубийству, но не потому, что по своей природе это убийство, а в основном потому, что считают, что вынашиваемый рождается в «прямом смысле» (таким образом подразумевая, что его убийство столь же морально серьезно, как и детоубийство, но опять же не потому, что это по сути убийство, а потому что его предполагается умерщвлять не внутри матки, а снаружи) [Rodger et al., 2021, e53].
Светские специалисты по биоэтике часто говорят на языке морали и используют терминологию этики и нравственности, однако в обсуждении репродуктивных технологий самим детям почти не уделяется внимания, их жизни и их смерти на разных этапах «работы с эмбрионами» рассматриваются только как часть технологического процесса. Исключительно прагматичный и бизнес-ориентированный подход, никак не затрагивающий христианское понимание жизни, можно считать большим недостатком академических работ о новых репродуктивных технологиях, особенно если эти работы прямо касаются моральных и этических аспектов.
Эктогестация и общественный консенсус
Время, когда эта биомедицинская технология от лабораторных исследований перейдет к клиническому применению, пока неизвестно. Однако следует ожидать, что в ближайшее время мы как минимум столкнемся с дальнейшим распространением этих исследований, а также с изучением возможности применения данной технологии на людях. Потенциальные биоэтические проблемы, связанные с этим, уже анализируются светскими специалистами по биоэтике. Формируются контуры новой терминологии, системы понятий, которая будет сопровождать внедрение технологии эктогестации. Диапазон клинического применения будет распространяться от обеспечения выживания недоношенных младенцев на пределе жизнеспособности до полной имитации беременности от зачатия до рождения [Segers, Romanis, 2022]. Логичным представляется первоначальное внедрение технологии именно в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
Светские специалисты задаются вопросами о том, что именно будет означать «обеспечить выживание» на таких сроках: например, как долго должен прожить поддерживаемый организм, чтобы вмешательство можно было расценить как целесообразное или успешное; где должна быть поставлена планка ожиданий по сравнению с текущими результатами интенсивной терапии новорожденных и какое понимание жизни и ее качества должно быть принято в этих рассуждениях [Romanis, 2018].
В свете таких вопросов в литературе звучат мнения о том, что диалог с обществом по поводу разработки и внедрения эктогестационных технологий будет важен на протяжении всего процесса исследований и подготовительных мероприятий [Verweij et al., 2021]. Диалог этот видится важным, поскольку обсуждаемая технология может изменить не только уход за новорожденными высокого риска, но и морально-этическое восприятие беременности, родов, материнства и родительства в целом [van der Hout-van der Jagt et al., 2022].
Светская биоэтика к настоящему времени уже готовит смысловое поле для восприятия новой технологии эктогестации в будущем: «Можно ожидать противоречивых моральных взглядов на разработку и внедрение этой технологии, но, учитывая предполагаемые клинические преимущества, частью „благоразумного пути вперед“ может стать организация диалога между различными заинтересованными сторонами, чтобы отобразить эти различные точки зрения и избежать потери этих потенциальных преимуществ из-за отсутствия общественного доверия» [Segers, Romanis, 2022, 2213]. Как это чаще всего бывает при внедрении биомедицинских технологий, имеющих отношение к зарождению человеческой жизни или к ее окончанию, общественное мнение заранее насыщается утверждениями о наличии «общественного консенсуса» по данному вопросу. Это значит, что в дальнейшем при затрагивании в дебатах морально-этического аспекта биомедицинской технологии можно сослаться на «общественный консенсус», после чего оппоненты исключаются из дискуссии как недостаточно прогрессивные или плохо информированные. Естественно, технология эктогестации не исключение: «Формирование общественного и морального консенсуса можно рассматривать как функцию этических переговоров и [трудоемких] политических процессов, которые, исходя из реалистичных ожиданий, могут завершиться принятием появляющихся технологий эктогестации, хотя и не без учета этических, социальных и правовых проблем» [Segers, Romanis, 2022, 2213].
Раздающиеся в светских медицинских и философских журналах призывы к тому, что такой диалог должен быть всеобъемлющим как с точки зрения вклада в разработку технологии, так и с учетом того, кто участвует в этом процессе, звучат вполне здраво. Логичными кажутся и напоминания о том, что представители общественности должны быть включены в диалог на протяжении всего процесса исследований и разработок, учитывая потенциальное влияние технологии на социальные взгляды, например на беременность и материнство. Разумеется, внимание ко всем точкам зрения является обязательным для того, чтобы развитие этой технологии было этически корректным [Verweij et al., 2021; van der Hout-van der Jagt et al., 2022; Segers, Romanis, 2022]. Однако зная, как внедрялись предыдущие резонансные биомедицинские технологии (ЭКО, эвтаназия и смена пола), все подобные размышления следует воспринимать как минимум с большой долей скептицизма.
Терминология и социальные последствия
При возникновении новой медицинской технологии, точнее, при переходе от стадии академических исследований к стадии практического применения с подтвержденной эффективностью, любая биомедицинская технология довольно быстро коммерциализируется и превращается в чей-то бизнес. В целях популяризации этого бизнеса новая биомедицинская технология преподносится в исключительно положительных тонах, практически как панацея. Фактически это просто коммерческая реклама, к тому же не всегда достоверная, которая ничего не говорит о нравственной стороне совершаемых действий и о моральной ответственности за них.
Подмена понятий и лингвистические манипуляции часто используются, чтобы обозначить, укрепить или гарантировать информационную и политическую известность и легитимацию какому-то конкретному видению общественного блага. Подобное лукавство постоянно встречается и в академических дискуссиях о репродуктивных технологиях.
Секулярная идеология и соответствующая ей терминология выглядят как комплекс манипуляций, направленных на формирование общественного мнения, которое относится к внедрению новых технологий управления человеческой жизнью положительно или как минимум нейтрально. Рождение человека, создание семьи, поддержание здоровья, лечение заболеваний и смерть — все эти этапы постепенно изменяют свое смысловое наполнение и из благословения Божия в сознании все большего числа людей превращаются в товар. Происходит это в том числе и потому, что меняется лингвистическая среда, в которой находятся все эти понятия. Создание этой лингвистической среды отмечается одновременно во многих странах по всему миру и носит, таким образом, глобальный характер.
Само по себе обсуждение этических аспектов новых репродуктивных технологий не является чем-то новым. Новыми являются терминологические манипуляции, которые всегда сопутствуют репродуктивным технологиям (само это название манипу-лятивно), и технология «искусственной матки», или эктогестации, в данном случае не исключение. Э. Романис в одной из своих статей, посвященных «искусственной матке», утверждает, что «эти вопросы должны быть сформулированы без того, чтобы человеческое существо, растущее в искусственной матке, описывалось с помощью терминологии, изначально нагруженной ценностями. Человеческое существо в искусственной матке не является ни плодом, ни ребенком, и этические привязки, связанные с этими терминами, могут увековечить непонимание и путаницу. Таким образом, для обозначения этого нового продукта человеческой репродукции следует использовать термин „вынашиваемый“: развивающееся человеческое существо, находящееся в состоянии беременности ex utero» [Romanis, 2018, 751]. Т. е. на сегодняшний день технология еще даже не получила распространения, но специалисты по медицинской этике уже раздают предписания о том, что обсуждение этой темы не надо «нагружать ценностями», поскольку «существо в искусственной матке не является ни плодом, ни ребенком».
Сторонники дегуманизирующей терминологии, например, утверждают, что искусственная матка как бы продолжает беременность, а значит, находящийся в ней субъект пока не родился, а значит, появляется концептуальное пространство для того, чтобы считать таких субъектов юридически не совсем людьми [Romanis, 2019b]. Такая формулировка позволяет считать, что дети в условиях неонатальной интенсивной терапии с использованием технологии эктогестации будут заслуживать меньших прав, чем недоношенные в традиционных отделениях экстренной неонатологии. С другой стороны, получается, что после извлечения плода из тела матери беременность в ее, так сказать, классическом понимании, прекращается, и, следовательно, соответствующие «субъекты» «родились», а значит, они являются юридически абсолютно полноценными людьми [Colgrove, 2019, 2020]. Таким образом, права и жизнь человеческих существ зависят от того, какими именно словами мы говорим о «рождении», «беременности» и самих «человеческих субъектах».
Сдвиг предела жизнеспособности, к которому приведет развитие обсуждаемой технологии, также может привести к ужесточению юридических ограничений для абортов [Rodger, Blackshaw, 2024, 87]. Высказываются мнения о том, что рассматриваемая новая биомедицинская технология позволит осуществить защиту на более ранних стадиях внутриутробного развития как от естественной, так и от намеренно осуществляемой смерти. Сторонники абортов уже оценили такую возможность как угрозу «правам» на аборт. Они понимают это так, будто «технология была политически захвачена, чтобы обеспечить повышенную легитимность мерам, которые подвергают беременных большему контролю» [Romanis, 2020, 90]. Видимо, их в принципе удручает развитие неонатологии, поскольку «улучшение неонатальной интенсивной терапии привело к усилению законодательных ограничений на аборты» [Romanis, 2020, 90].
Однако не надо забывать, что никакого подлинного «права на аборт» не существует. Даже большинство самых известных защитников абортов отстаивают только право на извлечение плода, а не право на его умерщвление [Thomson, 1971; Warren, 1973; Boonin, 2003].
Противодействие любому такому «праву» не является незаконным контролем (например, над правами женщин, о чем не перестают трубить феминистки). Законы, которые разрешают аборты, являются законами только по названию. Еще Цицерон замечал: «А многие вредные, многие пагубные постановления народов? Ведь они заслуживают названия закона не больше, чем решения, с общего согласия принятые разбойниками» [Цицерон, 1994]. Поэтому противодействие абортам и дегуманизации нерожденных детей — отнюдь не «незаконный контроль» над правами других, а адекватная реакция на продолжающуюся глобальную системную несправедливость [Colgrove, 2024, 80].
Православная Церковь, сопровождающая человека на всем пути его земного существования, а также после его завершения, старается предупредить обманутого человека и указать ему на скрытую смертельную опасность. Православная Церковь помогает человеку понять его подлинное призвание и призывает осознать, что такое подлинная Жизнь. Современные люди дезориентированы и не всегда могут понять, что технология, «улучшающая» жизнь, в качестве сопутствующего эффекта может содержать действие, ведущее к смерти (аборты, ЭКО). И в ситуациях, когда человек может совершить ошибку, способную погубить его душу (а может, и души нескольких детей), Церковь свидетельствует о пагубности согласия на поспешное и необдуманное использование биомедицинских технологий, реализация которых сопровождается смертью, но которые при этом преподносятся как дарующие жизнь [Журнал № 138, 2023].
Одним из наиболее важных результатов внедрения эктогестации будет снижение предела жизнеспособности. Жизнеспособность плода занимает важное место в законодательстве об абортах, поэтому если эктогестация приведет к тому, что плод на сроке 18 недель будет жизнеспособным, то существует потенциал для давления с целью соответствующего снижения текущих законодательных ограничений на аборты. В странах, которые, скорее всего, примут эктогестационные технологии, на большинство абортов такое снижение ограничений жизнеспособности, к сожалению, никак не повлияет. В странах с высоким уровнем жизни не менее 90% искусственных абортов совершаются до 13-й недели беременности [Popinchalk, Sedgh, 2019]. Чтобы выступать в качестве реальной альтернативы аборту, эктогестационная технология должна быть доступна на более ранних сроках беременности, поэтому развитие эктогестации вряд ли окажет существенное влияние на аборты в обозримом будущем, а значит, сторонники абортов напрасно переживают.
В будущем, если эктогенез получит клиническую реализацию, вместе с ним в обществе может возникнуть ряд проблем, включая возможность окончательного превращения детей в товар и потенциальную патологизацию беременности и родов. Долгосрочные последствия для тех, кто был создан в результате этого процесса, в настоящее время оценить невозможно. Если эта технология станет повсеместной, мы можем обнаружить, что центральное богословское значение беременности и родов уменьшилось. Как христиане мы можем видеть повод для беспокойства в том, что развитие эктогестации, скорее всего, нормализует использование искусственного зачатия и со временем проложит путь к широкому применению эктогенеза [Rodger, Blackshaw, 2024, 85].
Заключение
Обсуждаемая технология обладает большим потенциалом, ведь она позволит спасти много жизней на ранних этапах внутриутробного развития. Вероятно, в будущем технологии искусственной беременности будут превосходить технологии, существующие сегодня в отделениях интенсивной терапии. Например, у новорожденных, родившихся в срок до 28 недель, высок шанс получить такие осложнения, как бронхолегочная дисплазия [Rodger, Blackshaw, 2024, 88]. Поскольку новые технологии открывают большие перспективы в предотвращении таких состояний, они могут принести значительную пользу крайне недоношенным новорожденным. Развитие этой технологии также может снизить предел жизнеспособности. Отодвинутый к более раннему сроку беременности предел жизнеспособности даст некоторым новорожденным шанс на выживание в тех случаях, когда при сегодняшних технологиях летальный исход неизбежен.
Пока в литературе нет широкого обсуждения т. н. полной эктогестации (т. е. полного развития от зачатия до рождения вне тела матери) и дебаты в основном касаются предполагаемых ближайших областей применения эктогестации и ее этических последствий. По преимуществу речь идет о характеристиках этой технологии, которые могут быть предложены в качестве альтернативы обычной неонатальной интенсивной терапии. В настоящее время все экспериментальные модели разрабатываются именно для этого.
Разумеется, технология эктогестации значительно отличается от неонатальной реанимации. Но разве в зависимости от используемой технологии должно меняться отношение к ребенку, которому оказывается помощь? Представляется важным зафиксировать именно этот момент перехода от разграничения технологий к разграничению отношения к реанимируемому ребенку: почему-то в одном случае это должен быть пациент, а в другом — «субъект AAPT», «субъект эктогестации», «вынашиваемый».
Пока новая биомедицинская технология еще не получила повсеместного распространения и обсуждаются лишь отдельные случаи, биоэтика православного христианства может заполнить морально-нравственную пустоту вокруг новой технологии и на основе Евангелия обозначить безопасный путь через эту неизведанную область, пользуясь теми понятиями и терминами, которые берут свое начало в предании Церкви и святоотеческой традиции. Для христиан важно знать, какие решения с духовной точки зрения безопасны, а какие могут нанести вред ближнему. Зачастую светская аргументация и используемая терминология создают среду, в которой нет христианского понимания смысла жизни, но просматривается коммерческий интерес и стремление к информационному и политическому доминированию. Такая односторонняя подача информации затрудняет объективное понимание смысла, цели и последствий применения новой технологии, что особенно важно, когда речь идет об оказании медицинской помощи. Поэтому представляется уместным обращать внимание на разницу в терминах и смыслах, чтобы обозначать ситуации, в которых есть риск отнестись к человеческой жизни без должного уважения. В современных условиях одной из задач биоэтики православного христианства может быть разъяснение неоднозначных идеологических установок и терминов, сознательно или случайно используемых в светском общественном пространстве. В случае появления откровенно дезинформирующих информационных потоков имеет смысл показывать новые биомедицинские технологии в их подлинном виде, не избегая критики тех направлений, реализация которых может привести к последствиям, идущим вразрез с учением Православной Церкви.
Большинство новых биомедицинских технологий направлены ко благу людей, к облегчению страданий; они создаются в стремлении улучшить жизнь. Но доминирующий светский характер современной науки иногда не позволяет научной мысли вовремя остановиться и избежать той стадии, когда для достижения благополучия одних людей необходимы страдания или даже смерть других. И происходит это из-за разницы между светским и христианским пониманием человеческой жизни и ее ценности. Эта разница проявляется в словах, которые используются для обозначения этапов и состояний человеческой жизни. Использование правильных терминов вводит в дискуссию обозначаемые этими словами моральные нравственные ценности, а осмысление этих ценностей влияет на принимаемые человеком решения. Отказ от таких слов, как «ребенок», «плод», «эмбрион», и использование новых предлагаемых терминов может осложнить возможность морального выбора при принятии решения будущими родителями и даже воспрепятствовать пониманию того, что речь идет о ребенке на самой ранней стадии внутриутробного развития.