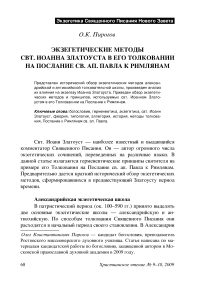Экзегетические методы свт. Иоанна Златоуста в его толковании на послание св. ап. Павла к римлянам
Автор: Пирогов Олег Константинович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Экзегетика священного писания Нового Завета
Статья в выпуске: 9-10, 2009 года.
Бесплатный доступ
Представлен исторический обзор экзегетических методов александрийской и антиохийской толковательной школы, произведен анализ их влияния на экзегезу Иоанна Златоуста. Приведен обзор экзегетических методов и принципов, используемых свт. Иоанном Златоустом в его Толковакнии на Послание к Римлянам.
Богословие, герменевтика, экзегетика, свт. иоанн златоуст, феория, типология, аллегория, история, методы толкования, послание к римлянам св. ап. павла
Короткий адрес: https://sciup.org/140189872
IDR: 140189872
Текст научной статьи Экзегетические методы свт. Иоанна Златоуста в его толковании на послание св. ап. Павла к римлянам
Свт. Иоанн Златоуст — наиболее известный и выдающийся комментатор Священного Писания. Он — автор огромного числа экзегетических сочинений, переведенных на различные языки. В данной статье излагаются герменевтические принципы святителя на примере его Толкования на Послание св. ап. Павла к Римлянам. Предварительно дается краткий исторический обзор экзегетических методов, сформировавшихся в предшествующий Златоусту период времени.
Александрийская экзегетическая школа
В патристический период (ок. 100–590 гг.) принято выделять две основные экзегетические школы — александрийскую и антиохийскую. По способам толкования Священного Писания они расходятся в нач альный период своего становления. В Александрии Олег Константинович Пирогов — кандидат богословия, преподаватель Ростовского миссионерского духовного училища. Статья написана по материалам кандидатской работы по богословию, защищенной автором в Мо -сковской православной духовной академии в 2009 году.
уже ко времени учеников апостольских приобретает популярность и получает широкое распространение аллегорически й1 метод толкования Священного Писания. 2
Первым христианским учителем александрийской школы обычно называют Климента Александрийского (150–215). Климент перенял «духовную интерпретацию» Священного Писания, используя филоновскую аллегорию.3 В «Педагоге» и «Строматах» он буквально «рассеял аллегорические толкования разных мест Писания»4. Климент считал, что истина Писания находится под вуалью и нуждается в интерпретации. Но скрытые тайны могут быть открыты, если принять, что ключ — Христос.5 «Почти все Писание выражено в загадках»6 — утверждал он.
Главным представителем александрийской школы и выразителем аллегорической экзегезы Священного Писания, был ученик Климента — Ориген (185–253/254). Ориген, как и до него Климент, «пользовался маршрутом, проложенным Филоном». 7 Но в отличие от своих учителей, утверждавших, что Писание имеет двоякий смысл, он объявил о трех уровнях в понимании Писаний: «Итак, способ чтения Писаний и отыскания смысла их, ‹…› состоит в следующем: ‹…› мысли священных книг должно записывать в своей душе трояким образом — простой верующий должен назидаться как бы плотью Писания (так мы называем наиболее доступный смысл); сколько-нибудь совершенный [должен назидаться] как бы душой его; а еще более совершенный и подобный тем, о которых говорит апостол — «Премудрость же глаголем в совершенных, премудрость же не века сего, ни князей века сего престающих, но глаголем премудрость Божию, в тайне сокровенную, юже предустави Бог прежде век в славу нашу» (1 Кор 2:6–7), — такой человек должен назидаться духовным законом, содержащим в себе тень будущих благ. Ибо, как человек состоит из тела души и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей [состоит из тела, души и духа]». 8
Самое высшее значение имеет последний уровень, и «восхождение к нему есть принципиальная цель экзегета». 9 «Все, даже самые простые из последователей Слова, веруют, что Божественное
Писание указывает какие-то таинственные распоряжения» 10 — утверждает Ориген. Как и Филон, он видел путь решения противоречий Писания через аллегорию, как и Филон, он различал мораль -ный смысл и смысл, отражающий истину о Боге и Его отношении к миру. 11 Но Ориген не слепо следовал аллегорическому методу толкования и любил повторять: «зачем искать аллегории там, где назидает буква? Иное надобно сохранять, так как написано». 12
Можно выделить несколько основных положений, характерных для Оригена. Писание имеет тройственный смысл:13 историче- ский (буквальный), моральный (душевный) и духовный (таинственный). На буквальном уровне в Писании заложены апории, введенные в текст Святым Духом, для того чтобы читатель обратился к духов -ному смыслу Писания. При аллегорической интерпретации Писания особый смысл приобретают даже мельчайшие частицы текста и малозначительные, на первый взгляд, фрагменты. Единство двух Заветов несомненно, но истинный смысл сокрыт за повествованием и может быть раскрыт с помощью приемов возвышенного толкования.
Ориген нередко занимался историческими и филологическими исследованиями, в местах трудных для понимания «предлагая герменевтические правила о контексте речи, о пособиях научных, необходимых для уразумения Писания». 14 Он считал, что для изъяснения Писания нужно было быть знакомым со словесными науками и философией, нужно сличать одни места с другими, обращать внимание на главный предмет речи ( rnoOeoig ) и не привязываться к букве. Но хотя «аллегорически-мистический метод изъяснения Священного Писания, Ориген первый возвел в научную систему »15 и «не только по примеру предшественников изъяснял Священное Писание, но старался определить и установить сами правила толкования и изъяснения» ,16 он, как пишет С.М. Сольский: «часто приносил в жертву искусственно созданному таинственному смыслу историческое содержание Богооткровенного учения». 17
Вследствие этого он не смущался произвольно толковать многие места Писания, имеющие историческое содержание. К таким «натянутым толкованиям» он часто прибегал там, где простые исторические сказания, как ему казалось, противоречили «возвы- шенным нравственным чувствам».18 Ориген выдвинул тезис о том, что не все тексты Писания имеют буквальный смысл, хотя всем им присущ иносказательный смысл19: «Но так как есть некоторые Писания, вовсе не имеющие телесного смысла, как мы покажем это впоследствии, то в некоторых местах Писания должно искать только душу и дух».20
Антиохийская школа толкования Священного Писания
Неудивительно, что указанная попытка распространить аллегорический метод на все тексты Писания независимо от их исторического контекста, вызывала реакцию в другой экзегетической школе — антиохийской, представителями которой «в упрек Оригену ставится исключительно его приверженность «языческому аллегоризму», то есть специфической технике толкования, опирающейся на языческую традицию иносказательной интерпретации мифов и мифопоэтических текстов». 21 «Антиохийцы, — пишет О.Е. Нестерова — считали подобные методы интерпретации не просто некорректными и неприложимыми к Священному Писанию, но и прямо враждебными христианскому вероучению, требуя, со своей стороны, строго ограничить христианскую экзегетическую практику рамками «буквального» понимания текстов Писания, подразумевающего подчеркнуто бережное отношение к библейскому «слову» и заведомо исключающего возможность привнесения толкователем в богооткровенный текст своих собственных произвольных и безответственных домыслов». 22
Некоторые западные ученые, например, Ф. Янг23, считают, что различие между экзегетическими направлениями лежит в различии между подходами в образовании. По их мнению, напряженные взаимоотношения между школами имеют прямые параллели с непростыми отношениями между риторами и философами в классический период. Философы обвиняли риторов в использовании пустой техники, используемой в качестве средства контроля над слушателем, но без моральной направленности; риторы, в свою очередь, обвиняли философов в иронии, издевке над миром, бесполезных спекуляциях и прочем. По мнению Ф. Янга, в основе антиохийских принципов экзегетики как раз лежит классическое риторическое образование.
Работа с текстами, которой обучали в античных школах, строилась на двух принципах — methodikon24 и hystorikon25. Первый подразумевал изучение филологических вопросов, второй связан с содержанием текста. Антиохийцев, соответственно, интересуют вопросы лексического анализа и содержания. «Характерные черты как комментариев, так и поучений в традиции антиохийцев, открывают параграфы, устанавливающие ὑπόθεσις26 текста — они хотят понять содержание, сюжет. Затем они изучают детали текста, вопрос за вопросом. Диапазон комментариев колеблется от дискуссии относительно альтернативного прочтения, до материала, подобного подбору правильной пунктуации и соответствующих конструкций предложений. Вопросы перевода и этимологии, объяснение иностранных слов, внимание к метафоре и оборотам речи все это характеризует — methodikon антиохийской школы».27 Затем они исследуют последовательность мысли, сверяют текст с другим текстом, обеспечивают дополнительный материал текста, часто используют другие тексты в Библии для ответов на вопросы в контексте содержания. Здесь они гово- рят об ἱστορία28. Эта экзегетическая техника гарантирует то, что содержание и истина не потеряются в массе детального комментария. Как экзегеты, антиохийцы стремились выявить основную идею, заключенную в словах и стиле текста. Большое значение для них имела ἀκολουθία29 — последовательность, взаимная согласованность учения и событий в Священном Писании.
Вообще, «установившееся в раннехристианской мысли выражение «антиохийская школа» отсылает нас к широким и, следовательно, не общим по значению аспектам: 1) христологическому воззрению; 2) библейской экзегезе, образовавшейся в Сирии и расцветшей в конце IV-го – начале V-го вв. в работах Диодора Тарсийского (ум. 390 г.) и его двух учеников — свт. Иоанна Златоуста (347–407) и Феодора Мопсуетского (ок. 350–428)»,30 а также блаж. Феодорита Кирского (386–457). Само понятие «антиохийская школа» сродни понятию «каппадокийская школа» т. к. в отличие от александрийской школы, ограничившейся местом и дисциплинарным курсом, она не имела ни «определенного преподавательского состава, ни четко обозначенного круга предметов».31 Однозначного мнения об основателе антиохийской школы нет.32 Одним из первых родоначальников антиохийской школы считается антиохийский пресвитер, мученик Лукиан (ум. 311 г.). Он был родом из Самосат, и свое образование получил в соседнем городе Эдессе. «Он был настоящим дидаскалом, ученость и авторитет которого собрали вокруг него верных учеников, образовавших целую школу».33 Известным его трудом является версия перевода Септуагинты, исправленная по еврейскому тексту («Лукианова рецензия»). Эти исправления носили преимущественно грамматический характер. Для Лукиана предназначение экзегезы — устранение неясностей текста, связанных с ошибками и даже намеренными вставками34 переводчиков и переписчиков. Св. Лукиан Антиохийский, хотя и широко пользовался историко-грамматическим методом истолкования Священного Писания, не отвергал полностью аллегорический метод, и, скорее всего, испытал некоторое влияние Оригена. «Лукиан находился под воздействием Оригена не только в своей библейско-исторической деятельности, но и в догматических воззрениях; тем не менее, утвержденное им направление в экзегетике мало-помалу раскрылось в полной противоположности догматико-аллегорическому методу Оригена и наложило отпечаток на весь характер богословия Антиохийской школы».35
Его последователь Евстафий Антиохийский известен по единственному сохранившемуся его труду «De engastrimytho contra Origenem» , который был направлен против экзегезы Оригеном ряда библейских текстов, включая эпизод встречи царя Саула с аэндор-ской волшебницей (1 Цар 28).
Следующей ключевой фигурой антиохийской толковательной традиции был Евсевий Эмесский, отличавшийся всесторонним образованием. Евсевий, епископ Эмесский, и родом был из Эдессы, где изучал Священное Писание у тамошних учителей. Свои знания и методы толкования он «черпал из церковных источников и именно в тех знаменитых школах, в одной из которых задолго до него получил свое образование прекрасный критик и экзегет Лукиан».36 Сильное влияние на миросозерцание Евсевия оказал историко-грамматический метод антиохийской школы, «благодаря которому его разрозненные религиозные понятия слились в богословскую систему строгой определенности».37 Характерной чертой произведений Евсевия, судя по сохранившимся отрывкам его творений, является живой язык, легкий слог, сильная диалектика, наглядность и живость рассуждений.
Яркой личностью антиохийской школы был Диодор Тарсий-ский (ум. до 394 г.), учившийся у Евсевия Эмесског о38 . Диодор, в свою очередь, стал учителем свт. Иоанна Златоуста и Феодора Мопсуетского. Экзегетическая деятельность Диодора была незаурядна. Он написал толкования «на все Писания». 39 Его комментарии «отталкивались, соответственно историко-грамматическому методу истолкования антиохийской школ ы40 , от буквального смысла». 41 Для толкования Диодора на Священное Писание характерен филологический разбор текста, простота и ясность изложения.
θεωρία — метод толкования антиохийской школы
Известно экзегетическое сочинение Диодора Тарсийского «О различии между феорией42 и аллегорией», направленное против ал легорического метода толкования.43 В нем Диодор различает три метода экзегезы: ἱστορία — «историю», т.е. последовательное изыскание, изложение; θεωρία — «феорию», созерцание и ἀλληγορία — «аллегорию», иносказание.
Диодор говорит о том, что θεωρία не противостоит ἱστορία, а утверждается на ней, в отличие от ἀλληγορία, разрушающей ее. «По мнению Диодора, в Писании нет иносказаний, — иначе говоря, Писание не есть притча. Библейские рассказы и речения всегда реалистичны, прямо относятся к тому, о чем идет речь. Поэтому библейское толкование должно быть «исторично», должно быть «чистым изложением о бывшем». Напротив, аллегоризм отрывается от прямого смысла, «меняет подлежащее», для аллегоризма об одном говорится, но другое подразумевается. Поэтому от иносказания нужно отличать «созерцание» [феорию — прим. ред. ]. Созерцание в самой истории открывает высший смысл, — исторический реализм этим не отрицается, но предполагается». 44 «Созерцание, о котором говорит Диодор, есть, прежде всего, экзегетическая дивинация, раскрывающая прообразы» — пишет далее прот. Г. Флоровский. 45
В противоположность александрийцам антиохийские экзегеты с особенной любовью занимались выяснением исторического смысла Библии. Для них важно было открыть мысль, которую вкладывал в слова сам автор. Как было указано выше, они старались достиг- нуть этого исследованием особенностей языка священных книг, стиля, подлинного значения метафор, тропов и образов выражений, установлением контекста речи и логической связи, в которой стоят ее отдельные части, исследованиями в области истории, быта, географии и археологии Палестины. «Они впервые почувствовали, какой неисчерпаемый источник нравственного обновления, какой лучезарный свет содержится в просто и буквально понимаемом тексте Писания…».46 В то время как александрийцы часто «совершенно произвольно связывали с местами Священного Писания духовный смысл, антиохийцы исходили из буквального, стремились определить его при пособии всех средств здравой экзегетики и потом показывали, что то, или другое повествование есть сень грядущих, Богом установленный тип, который нашел свое исполнение через Иисуса Христа».47
Современные исследователи различными способами пытаются выразить разность «истории» и «феории». Один из них указывает, что, в отличие от Оригена и других александрийцев, антиохийцы в каждом фрагменте Священного Писания предпочитали видеть иной двойной смысл — буквальный и духовный, извлекаемый через фео-рию48. «Оба смысла в равной степени происходят от Божественного вдохновения, поскольку Дух Божий присутствует и руководит святыми писателями, когда они составляют свои сочинения. Антиохийцы полагали, что буквальный смысл отсылает к основной мысли библейского автора; это — то, что является содержанием вести, воспринятой им самим благодаря богодухновенному действию Свя- того Духа, которую он пытается передать своим читателям. Духовный смысл в свою очередь отсылает к слову, которое Бог произносит через письменный текст во всякий момент времени, во всяком поколении людей в жизни в Церкви. Тем не менее, этот духовный смысл для антиохийских Отцов остается прочно укорененным в исторических событиях».49 Представители антиохийской школы настаивали на том, что «окончательное значение любого события или действия должны быть основаны на истории. Их задачей было найти то, что они называли θεωρία — вдохновенное видение божественной истины. Этот поиск вел их к обозначению не двух различных чувств, но, точнее, двойного чувства внутри событий Ветхого Завета, чувства или значения которое одновременно и буквальное (историческое) и духовное».50
Сам термин θεωρία использовался антиохийскими экзегетами в различных контекстах и поэтому затруднительно описать его общее значение. Чаще всего под термином θεωρία « подразумевается способность воспринимать как буквальные исторические факты, описанные в тексте, так и ту духовную реальность, на которую указывали эти факты» — пишет Е.Т. Казенина. 51 Другой автор указывает, что «в антиохийской экзегетике под созерцанием (θεωρία) принято понимать духовный смысл Писания, который в отличие от «аллегории» александрийцев характеризуется большей согласованностью с буквальным смыслом толкуемого текста». 52
А. Ваккари выделяет четыре характерные особенности фео-рии как метода толкования:
-
1. «Θεωρία предполагает историческую реальность событий, описанных библейским автором.
-
2. В дополнение к историческому описанию, θεωρία одновременно охватывает вторую будущую реальность, которая была онтологически связана с первой.
-
3. Первое (или близкое) историческое событие стоит в отношении ко второму как посредственный к совершенному, маленький к большому, или эскиз к завершенной работе художника.
-
4. Настоящие и будущие события являются главными объектами θεωρία » 53 .
Соотношение между феорией и типологией
В Антиохийской школе использовались также вспомогательные экзегетические методы, известные как типология и sensus plenior. 54
Прибегая к типологии55, антиохийские экзегеты рассматривали ветхозаветные «типы» как особую форму пророческих знамений, которые прямо связывали типологический метод толкования с толкованием «неявных» ветхозаветных пророчеств (особенно — мессианских). Для антиохийцев, «первостепенное значение имела концепция «двойного», или «непрямого» пророчества56. Т. е. такого пророчества, которое реализовалось лишь в слабой степени, и которому предстояло еще раз — уже в полной мере — исполниться в будущем, хотя современникам пророка он был и непонятен.57
«Теория sensus plenior в целом рассматривает определенный текст как содержащий «двойной смысл», то есть буквальный и более полный духовный смысл, который может выходить за пределы первоначальной интенции библейского автора »58 . Отец Иоанн Брек пишет о преимущественном употреблении этого метода следующее: «Отталкиваясь от буквального смысла, sensus plenior служит для возобновления во всякий новый исторический момент искупительного значения подвига Божия, имевшего место в прошлом в лоне Израиля и в — самом высоком смысле — в жизни, смерти воскресе -нии Иисуса Христа »59 .
Вопрос о соотношении между θεωρία и типологией до сих пор окончательно не решен, поскольку между этими методами тон -кая грань.60 Если исходить из терминологии одного из ключевых представителей антиохийской школы, Диодора Тарсийского, выделяющего феорию как один из основных методов, можно сделать вывод, что типология является ее частным случаем.
А. Ваккари и еще ряд исследователей, например, С. Сейде-со с61 , рассматривают феорию, наоборот, как разновидность типологии. С этой целью С. Сейдесос выделил у антиохийцев две формы типологии:
-
1. Случай, когда пророк не видит и не намеревается обозначить будущее исполнение прообраза (ἀντίτυπος) — типология в общем смысле.
-
2. Вариант, когда пророк (хоть, может, и не совсем ясно) видит будущий ἀντίτυπος благодаря божественному откровению через современные ему события. Будущая эсхатологическая действительность формирует язык, используемый пророком для обращения к его современникам, и настоящее, в свою очередь, становится средством для обозначения будущих мессианских со-бытий. 62 Пророк осознает оба события его пророчества, и именно это двойное видение и есть θεωρία . 63
Близко к этой точке зрения стоит П. Тернант64, который практически отождествляет θεωρία и типологию и считает, что антиохийцы не видели особой разницы между этими методами. «Отличием между θεωρία и типологией было то, что θεωρία мыслилась как форма прямого устного пророчества, которое было приложимо к пророческим словам Священного Писания. В типологии, однако, будущее выражалось в типе косвенно, то есть через личности, события, или учреждения, которые пророк вообще сознательно не предвидел или не мог предсказать».65
Методы толкования свт. Иоанна Златоуста
Свт. Иоанн Златоуст извлекает духовное содержание текста Священного Писания через созерцание ( 0eюp^a ) его буквального смысла. Для него, как представителя антиохийского направления, это — базис всего толкования. Поэтому буквальный смысл для святителя — не единственный, Златоуст далек от «сухого буквализма», который можно найти у отдельных представителей антиохийской школы.
Златоуст нередко называет символическое толкование Священного Писания в общем смысле «анагогическим »66 , причем понимает под термином κατ’ ἀναγωγήν любое объяснение в переносном смысле, в отличие от прямого, исторического смысла, и относит сюда и Oeюp^a, и аллегори ю67 .
Как уже было сказано выше, θεωρία как общий метод антиохийских экзегетов предполагал определение интенции (намерения) библейского автора. Что под своими словами подразумевал апостол, каково было его намерение — вопрос, который занимает свт. Иоанна на протяжении его Толкования на Послание к Римлянам. Анализируя его комментарий, мы видим, как «глубокое основание религиозного чувства, логический анализ, психологический взгляд и правильный такт освещают ему задачу толкований и дают возможность метко угадывать мысль автора». 68
Златоуст следует общепринятым принципам антиохийской экзегетики. В первую очередь антиохийцы смотрели на содержание текста ( rnoOeoig), что соответствует methodikon . 69
Толкование на Послание к Римлянам Златоуст предваряет следующим рассуждением о необходимости обзора темы (ὑπόθεσις): «Павел писал послания другим, побуждаемый какою-нибудь причиной (aiTiag) и целью (гпоОеоеюд) — на это он и указывает, говоря коринфянам: «а о них же писасте ми» (1 Кор 7: 1), и галатам изъясняет то же самое, как в предисловии, так и во всем послании. Для чего же и по какой причине он писал к римлянам?».70 Далее, на протяжении всего комментария он указывает на необходимость рассмотреть содержание и выявить цель, которую ставил перед собой апостол. Златоуст постоянно следит за ходом речи апостола, сверяет ее содержание с ходом мысли: «А что таково было намерение Павла и по этой именно причине он так расположил свою речь, видно из следующего. Если бы он не старался подготовить это, то ему достаточно было бы сказать: «по жестокости же твоей и непокаянному сердцу собираеши себе гнев в день гнева» (Рим 2:5) — и прекратить эту речь (гпоОеоеюд таитп^)».71 Еще пример: «Потому апостол пространно и указывает то, что иудеи сами ставили себе в похвалу, зная, что все сказанное [rnoOeoig Ta λεγόμενα — букв.: «содержание сказанного»] служит к большему их обвинению».72 Далее: «Почему же не сказал [апостол]: «истощил Себя»? Потому что Он хотел выразить не только то одно, что Сын Божий сделался человеком, но и то, что Он подвергался поруганиям и приобрел от многих худую славу, так как Его считали бессиль -ным. Ему говорили «аще Сын еси Божий, сниди со креста» (Mф 27:40) и «иныя спасе, Себе ли не может спасти?» (Mф 27:42). Поэтому [апостол] и упомянул об обстоятельстве, которое ему было нужно для настоящего предмета (vno6e0iv), но, однако, и здесь высказывает гораздо более того, сколько обещал. Из его слов видно, что был злословим не только Христос, но и Отец, так как сказано: «поношение поносящих Ти нападоша на Мя» (Пс 68:10). А это, между прочим, означает, что не случилось ничего нового и необычайного. Те самые, которые в Ветхом Завете научились поносить Бога, безумствовали и против Сына Его. А написано это для того, чтобы мы подражали [Сыну Божию]».73
Иногда для Златоуста ὑπόθεσις — не только сущность предмета и его содержание, но и причина, побуждающая тот или иной ход мысли апостола: «Не удивляйся, что Павел, говоря о законе, употребил весьма сильные выражения; он ограничивается необходимым, лишая возможности думающих иначе найти в его словах повод к возражению и обнаруживая большое старание правильно изобразить настоящее. Потому не просто оценивай настоящую речь, но вникни в причину (ὑπόθεσιν), которая заставила [апостола] так говорить, представь себе неистовство иудеев, и непреодолимое их упорство, которое он старался преодолеть». 74
Подобно Оригену, Златоуст признает в тексте наличие «апорий», т. е. определенных затруднений. Но он решает их в русле историко-филологического метода антиохийской школы. Например, комментируя текст «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, Ибо иной уверен, что может есть все, а немощный ест овощи» (Рим 14:1–2), Златоуст говорит: «Знаю, что слова эти мно- гим трудны (ἁπορίαν) для понимания. Потому, прежде всего, необходимо изложить содержание (ὑπόθεσιν) всего этого места и сказать, что [апостол] желал исправить, когда писал об этом. Итак, что же он хотел исправить?..»75
Отличительной чертой экзегетического принципа Златоуста является «строгий объективизм» 76 — проникновение в дух автора, в ту идею, которая его занимала при написании. «Свт. Иоанн Златоуст повсюду старается проникнуть в дух автора, уловить ту идею, которая занимала его при написании и найти то, что в тексте лежит по намерению самого автора, одним словом найти объективный первоначальный смысл текста, вот что было его руководительным принципом экзегезы».77 «Везде необходимо обращать внимание не просто на выражения, но на мысль говорящего, и нужно в точности понимать различие сказанного (Οὐ γὰρ ἁπλῶς ταῖς λέξεσιν, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ τοῦ λέγοντος ἀναγκαῖον πανταχοῦ προσέχειν, καὶ τὴν ἀκριβῆ τῶν εἰρημένων εἰδέναι διαίρεσιν)» — говорит он в 13 бе-седе.78 Или еще: «Но, как я всегда говорил, необходимо принимать во внимание расположение (γνώμην), с каким что-либо говорится, сущность предмета (τὴν ὑπόθεσιν), о котором говорится, и то, что старается исправить ведущий речь. (Ἀλλ' ὅπερ ἀεὶ λέγω, τὴν γνώμην ἐξετάζειν δεῖ, μεθ' ἧς λέγεται, καὶ τὴν ὑπόθεσιν, περὶ ἧς λέγεται, καὶ τί σπουδάζων κατορθῶσαι λέγει)».79 Определению цели, намерения автора в конкретной ситуации, Златоуст придавал большое значение: «Потом, снова ободряя его, не говорит «падает», но как? — «Стоит или падает». Если случится с ним то или другое, все это зависит от Господа. Если он падет, ущерб для Бога, а равно, если стоит, приобретение для Бога же. Впрочем, такое равнодушие было бы совершенно недостойно попечительности, приличной христианам, если бы мы опять не стали обращать внимание на цель Павла (τὸν σκοπὸν), который хочет, чтобы слабым в вере не делали укоризн прежде времени».80 Или еще пример: «Мы должны не просто слушать то, что говорится, но вникать в мысль (γνώμην) и намерение (σκοπὸν) говорящего, в то, чего он старался достигнуть, о чем и всегда умоляю любовь вашу. Если мы с таким размышлени -ем будем принимать каждое слово, то ни в одном не встретим затруднения. А в настоящем случае главная цель [апостола] состоит в том, чтобы в уверовавших из язычников истребить высокомерие, которое могло возникнуть под влиянием сказанного выше; ведь язычники, научившись скромности, таким образом, безопаснее пребудут в вере, а иудеи, освободившись от отчаяния, охотнее приступят к благодати. Итак, обращая внимание на эту цель (σκοπὸν) [апостола], выслушаем все сказанное им в настоящем месте...».81
М. Митчел считает, что Златоуст для доказательства отсутствия противоречий в рассуждениях Павла использует греко-римскую риторическую систему доказательств — στάσις.82 Выделяют три типа στάσις — предположительный, юридический, и законный. Златоуст использует все три, чтобы показать то, что в учении Павла о законе нет противоречий. Возникающие противоречия или спорные моменты в тексте Послания святитель решает в духе риторической традиции, указывая на то что, прежде всего, нужно выявить цель или намерение ап. Павла. Тогда противоречия снимаются. «Я не противоречу себе, отвечает [апостол], но спешу уврачевать и привлечь утружденных. Замечаешь ли, как в целой этой речи он об- наруживает одно намерение, именно желание утешить иудеев? А если потеряешь это из вида, то получится много противоречий».83
Экзегетический принцип Златоуста лежит в рамках толковательной практики антиохийцев. Исследование Златоустом содержания (ὑπόθεσις) Послания к Римлянам соответствует methodikon антиохийской школы, то определение лица (πρόσωπον), причины (αἰτία) или цели (σκοπὸς), намерения (γνώμη) автора и времени происходящего (καιρὸς), будет соответствовать hystorikon . «Преследуя повсюду задачу отыскать цель св. писателя, которая совпадает с целью самого Писания, Иоанн Златоуст ставил вопросы: кто говорит? О чем говорит? К кому говорит? — и всегда почти давал удовлетворительные ответы». 84 Пример рассуждений святители, подтверждающий эти слова. «Какое же будет решение? Для этого нужно посмотреть, кому, и когда, и почему Христос заповедал это. В самом деле, не только сами сказанные слова надобно рассматривать, но и лицо (πρόσωπον), и время (καιρὸν ) , и причину (αἰτίαν), и все это должно тщательно исследовать». 85 В 16 гомилии он говорит: «А если мы не будем расследовать причин (αἰτίας), то должны будем назвать и Илию убийцей, а Авраама не просто убийцей, но еще детоубийцей, а также обвиним в убийстве Финееса и Петра; не соблюдая этого правила, мы сделаем нелепые заключения не только о святых, но и о Боге всяческих. Чтобы этого не было во всех подобных случаях, станем исследовать обстоятельства, обращая внимание на причину (αἰτίαν), намерение (γνώμην), время (καιρὸν) и на все то, что может служить к оправданию происшедшего ». 86 · И вот еще характерный пример, указывающий на важность для интерпретации Златоустом
Послания Павла времени его написания, и причин, побуждающих автора: «Так, я замечаю, что Павел к Римлянам и Колоссянам пишет об одном и том же, но неодинаково. К Римлянам он пишет с большим снисхождением (συγκαταβάσεως), когда говорит: изнемогающаго же в вере приемлите, не в сомнение помышлений. ‹…› Причину (αἰτίαν) такой разности я нахожу не в чем другом, как в обстоятельствах вре -мени. В начале следовало быть снисходительным (συγκαταβαίνειν), а после это стало уже не нужно». 87
Одним из отличительных признаков использования метода θεωρία Златоустом в толковании на Послание к Римлянам является последовательное внимание к мельчайшим деталям текста, таким как перечисление имен, мест, смена имен и прочее. Святитель убежден, что этимология, как аспект грамматики, должна быть особенно привлекаемой для установления полного богословского значения текста: «В Священных Писаниях нет ничего лишнего и ничего неважного, хотя бы то была одна йота, хотя бы одна черта, но и простое приветствие открывает нам великое море мыслей (πέλαγος ἠμίν ἀνόιγει νοήματων). Что я говорю: простое приветствие? Часто прибавление и одной буквы привносит целый ряд мыслей (Πολλάκις καὶ ένὸς στοιχείου προσθήκη ὁλόκληρον νοημάτων εἰσήγαγε δύναμιν). Это можно видеть в имени Авраама». 88 Еще пример: «Ревнитель любомудрия и любитель духовной беседы пусть знает, что в Писании даже, по-видимому, маловажное сказано не напрасно и не без цели и что Ветхий Завет заключает в себе много полезного. «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам» (1 Кор 10:11), — говорит [апостол]. Потому и Тимофею он говорил: «занимайся чтением, наставлением»
(1 Тим 4:13), побуждая его читать все книги Писания, хотя он имел такой духовный дар, что изгонял бесов и воскрешал мертвых». 89
Для константинопольского иерарха все Священное Писание составляло «море мыслей», к созерцанию которого он стремился: «Повторяй это постоянно и получай отсюда наставление, так как каждое из этих слов заключает в себе неизмеримое море мыслей (τούτων γὰρ ἕκαστον τῶν ῥημάτων πέλαγος ἀχανὲς ἔχει νοημάτων)». 90
Златоуст привлекает внимание своих слушателей к духовным сокровищам, которые могут быть найдены в этимологии библейских имен. Например, в 31 беседе он говорит: «Думаю, что многие, даже считающие себя весьма ревностными, оставляют без внимания эту часть послания, как бесполезную и не заключающую в себе ничего важного; полагаю, что они рассуждают подобным образом и о родословной, помещенной в Евангелии: так как она представляет список имен, то они и заключают, что отсюда нельзя извлечь большой пользы. Но золотых дел мастера собирают и мелкие опилки, а эти люди проходят мимо и больших слитков золота. Итак, чтобы они не подверглись этому, и сказанного прежде достаточно, чтобы удержать их от такой беспечности. А что и отсюда может быть немалая польза, это мы уже доказали в предыдущей беседе, когда такими приветствиями возбудили ваше внимание. Попытаемся и теперь также извлечь из этого места благородный металл, потому что и в голых именах можно открыть великое сокровище (Ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ ὀνομάτων ψιλῶν μέγαν εὑρεῖν θησαυρόν). Если вникнешь, почему Авраам назван этим именем, почему [названы] Сарра, Израиль и Самуил, то и из этого извлечешь сведения о многом (Ἐὰν γοῦν μάθῃς διὰ τί Ἀβραὰμ ἐκλήθη, διὰ τί Σάῤῥα, διὰ τί Ἰσραὴλ, διὰ τί Σαμουὴλ, πολλῶν πραγμάτων καὶ ἐντεῦθεν ἱστορίας εὑρήσεις)». 91 Важны для него также названия мест и времен: «То же самое ты можешь извлечь для себя из наим енования времен и мест (Καὶ ἀπὸ καιρῶν δὲ καὶ
ἀπὸ τόπων τὸ αὐτὸ τοῦτο δυνήσῃ συναγαγεῖν). Внимательный человек и отсюда обогащается, а нерадивый не получает пользы и от самого очевидного. Немало обучают нас любомудрию имена Адама, его сына, жены и многих других, потому что имена — памятники многих событий: ими выражаются и Божье благодеяние и благодарность матерей, так как матери, зачавшие в чреве, по обетованию Божьему, в воспоминание такого благодеяния Божьего и давали детям имена». 92 Простые, на первый взгляд, слова порождают в уме внимательного экзегета «множество соображе-ний» (θεωρηματῶν), для изъяснения которых ему недостаточно порой и дня: «Приветствуйте, — говорит апостол , — Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе» (Рим 16:3). Не кажется ли это простым приветствием, не представляющим нам ничего великого и важного? Посвятим же ему одному всю беседу, или — лучше — сегодня, при всем старании, мы не в состоянии будем исчерпать для вас все мысли, заключающиеся в этих немногих словах, но необходимо отложить для вас и на другой день множество соображений (θεωρηματῶν), рождающихся от этого малого приветствия». 93 Какие соображения возникали у Златоуста по поводу приветствия? «Оно научило нас, какое добро — труд, и какое зло — праздность, и какова была душа Павла, — как бдительна и заботлива, оказывая великое попечение не только о городах, племенах и народах, но и о каждом отдельно верующем. Оно показало, что бедность нисколько не служит препятствием к гостеприимству, что везде нужны не богатство и деньги, но добродетель и благочестивое расположение души, и что славнее всех люди, имеющие страх Божий, хотя бы они были доведены до крайней бедности» — говорит святитель. 94
Отец Церкви придавал большое значение особенно упоминаемому в Библии факту смены имени. Вот как рассуждает он о перемене имени Савла: «Да и вопрос сегодня у нас не о маловажных вещах, но о таком исследовании, которое вчера только начато, но не окончено по множеству представившихся предметов. Что ж это такое? Мы начали рассуждать о перемене имен, какие Бог дал Святым. Предмет этот с первого раза кажется маловажным, но, если вникнуть тщательно, заключает в себе великое сокровище (θησαυρὸν)».95 Потом продолжает: «Вас тотчас поразила перемена имени, потому, что во всех посланиях и в их вступлениях находим, что он называется не Савлом, а Павлом; и это [перемена имени] было не с ним одним, но и со многими другими. И Петр прежде назывался Симоном, и сыны Зеведеевы, Иаков и Иоанн, переименованы после сынами громовыми, да и в Ветхом Завете, известно, то же было с некоторыми. Так, Авраам, прежде называвшийся Аврамом, после наименован Авраамом, и Сарра прежде называлась Сарою, а после названа Саррою, и Иакову после дано имя Израиля. Так мне показалось неприличным пройти без внимания такое сокровище имен (ὀνομάτων θησαυρὸν)».96 В другом месте он рассуждает так: «Это часто и вы слышали, и мы читали: но слова [Писания] должно не только прочитывать, но и понимать, иначе не будет нам никакой пользы от чтения. Сокровище [θησαυρὸς), доколе ходят по нему, не показывает богатства; нет, надобно наперед раскопать его, спуститься вниз, и так найти все [сокрытое] богатство. Тоже и с Писанием: если не исследуешь глубины его, то одно чтение не покажет сокровища (θησαυρὸν) заключающихся [в Писании] благ. Если бы довольно было одного чтения, то Филипп не сказал бы евнуху: «разумеешь ли, что читаешь?» (Деян 8:30). Если бы довольно было чтения, Христос не сказал бы иудеям: «исследуйте Писания» (Ин 5:39). А исследующий не останавливается на поверхности, но нисходит в самую глубину. Ведь и в самом вступлении [послания] вижу великое море мыслей (πολὺ πέλαγος νοήματων). ‹…› Это слово — «Павел» — есть, конечно, одно только простое имя, но оно заключает в себе такое сокровище мыслей, которое уже известно вам по опыту».97
Златоуст призывает тщательно рассматривать (θεωρίας) каждое слово: «Можно бы еще и более сказать об имени [Павла], но, чтобы нам коснуться и второго слова, прекратим здесь рассмотрение (θεωρίαν) имени, и перейдем теперь к этому слову. Как имя «Павел» доставило нам великое богатство, так и слово «призванный», если только решимся мы исследовать его с надлежащим усердием, даст нам такой же, или еще и обильнейший, предмет для созерцания (θεωρίας). В самом деле, как вынувший из какого-либо украшения или диадемы царской один только камень, может, продавши этот драгоценный камень, и купить великолепные дома и дорогие поля, толпы слуг и множество других предметов, — так и в отношении слов Божиих, если захочешь изъяснить смысл одного речения, оно доставит тебе великое духовное богатство, не тем, чтобы принесло дома, или слуг, или десятины земли, но тем, что возбудить души внимательных к благочестию и любомудрию. Вот и это самое слово «призванный», смотри, к какой ведет нас истории духовных дел (χειραγωγεί πραγμάτων ἰστορίαν πνευματικῶν)». 98
Из приведенного комментария видно, что святитель признает «теоретический» смысл библейских имен материалом великой важности. Для него это — великое сокровище. Библейские и новозаветные этимологии наводят внимательного, усердного исследователя на мысль о присутствии более высоких духовных истин. Через имена Авраама, Иакова, Прискиллы и Акилы и другие путем этимологического анализа из текста Писания можно извлечь полноту богословского смысла.
Константинопольский иерарх призывает своих слушателей тщательно исследовать каждое слово в Писании: «Убедились ли вы, что не должно считать излишним ничего из находящегося в божественном Писании? Научились ли тщательно исследовать и надписи, и имена, и простые приветствия, написанные в божественных изречениях? Я думаю, что уже никто из трудолюбивых не позволит себе пропустить без внимания какие-нибудь слова, помещенные в Писаниях, будет ли то перечисление имен, или счет лет, или простое кому-нибудь приветствие». 99
На материале приведенных комментариев можно утверждать, что свт. Иоанн придавал огромное значение исследованию каждой, даже на первый взгляд незначительной детали Священного Писания, будь то перечисление имен или хронология событий. Не этот ли подход дал повод некоторым исследователям считать Златоуста «сухим буквалистом», а его метод характеризовать как «грамматическую микрологию» (Г. Мейер )100 ? И, если нет, то в чем отличие подхода свт. Иоанна от иудейского буквализма эпохи позднего Второго храма, или от интереса к букве у Оригена?
Буквализм иудейских толкователей характеризовался столь сильным сосредоточением на деталях, что из их вида ускользало то, что является для святителя ценным в первую очередь — цель и общий смысл Писания.
Оригеновское подробное изучение буквы Писания стало лишь инструментарием для его аллегорических толкований, который носят ярко выраженный субъективный характер. Как и Златоуст, он Ориген считал, что в Священном Писании «нет не только ни одного места, но даже ни одной буквы ни одного титла, где бы не скрывалось особого таинственного смысла, ‹…› поэтому священнейшая обязанность всякого толкователя Писания более и более углубляться в него, искать в нем высшей таинственной мудрости и рыться в нем исследующею мыслию, как в неистощимом богатом руднике, чтобы выносить из глубоких недр его сокрытые в нем и незримые миру сокровища золота или божественной, небесной истины».101
Однако для Оригена священные писатели служили простыми орудиями в руках Святого Духа, которые не были в состоянии проникать всю глубину мудрости, вложенную Духом в слова. Поэтому, в отличие от Златоуста, в своих исканиях таинственного смысла Ориген заботится не столько о том, чтобы верно уразуметь и представить мысль того или другого священного писателя, сколько о том, чтобы извлечь некий сокровенный смысл при помощи аллегорической интерпретации — смысл, неведомый и неявленный самому священному автору.
Толкование Священного Писания свт. Иоанном по методу θεωρία тесно связано с его пониманием учения о библейской бого-духновенности. Он осознавал глубину духовного значения Священного Писания в целом, поэтому сравнивал его с морем, неисчерпаемым как действие Святого Духа. Для Златоуста «Священные писатели писали и говорили «в Духе», — или говорил в них Дух. Однако это наитие Духа Златоуст решительно отличает от одержимости: сознание и ум остается ясным и уразумевает внушаемое. Это скорее озарение. И в этом существенное отличие профетизма от мантики. Поэтому священные писатели не теряют лица». 102 Священный Писатель у Златоуста «реагирует на вдохновение Божие столь же ясно, как вода отражает луч солнца» — пишет проф. Ч. Бауэр. 103
Θεωρία у Златоуста, как представителя антиохийской экзегезы, прочно основана на ἱστορία. Он трезво оценивал исторический характер Послания и «если бы Златоуст признавал механическую теорию вдохновения, по которой человек представляется пассивным органом действия Св. Духа, то невозможно было бы найти у Златоуста ни удивительного и верного взгляда на организм посланий, ни тонкость замечаний на характерные особенности одного послания в сравнении с другим, ни правдивой критики, ни осмыслен- ной вескости суждений».104 Как считает Г. Мейер, «если Феодор Мопсуестийский смотрел на Св. Писание как на продукт человеческой мысли и отсюда едва не пришел к уничтожению типического характера Ветхого Завета, то Златоуст, наоборот, смотрит на Священное Писание как на продукт Божественного воздействия на человека, как на произведение Святого Духа. Отсюда положительный характер вдохновения он распространяет не только на общее содержание, но и на форму вообще; даже подбор мыслей и порядок речи он приписывает действию Святого Духа…».105 Так об ап. Павле Златоуст рассуждает: «И не безрассудно ли, — когда кто получает письмо от друга, то читает не только содержание письма, но и находящееся внизу приветствие и по нему особенно заключает о расположении писавшего; а когда пишет Павел, или — лучше — не Павел, но благодать Духа провещает послание к целому городу и к такому множеству народу, а чрез них и ко всей вселенной…».106
Таким образом, именно Златоусту, посредством удивительно выверенного взгляда на толкование Священного Писания, удалось сохранить золотую середину, не впадая в крайности, в отличие от Оригена или Феодора Мопсуетского. Его трезвая экзегеза, твердо основанная на историко-филологическом методе, помноженная на возвышенный метод θεωρία, использовавшийся антиохийской традицией, была воспринята огромным числом экзегетов на Востоке и на Западе. Его особый интерес к истории, к содержанию всего Послания к Римлянам в совокупности с его отдельными частями, его объективный подход, особое внимание к личности св. ап. Павла, и, особенно, практическая направленность его экзегезы внесли неоценимый вклад в традицию толкований на эту книгу Священного Писания Нового Завета.
Список литературы Экзегетические методы свт. Иоанна Златоуста в его толковании на послание св. ап. Павла к римлянам
- Joannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani. Commentarius in Epistolam ad Romanos. Patrologia Cursus Completes Series Graeca. Vol. 60. Ed. J. P. Migne. Paris, 1862. Col. 391-681.
- Joannis Chrysostomi. Homiliae XXV in quaedam loca Novi Testamenti. Patrologia Cursus Completes Series Graeca. Vol. 51. Ed. J. P. Migne. Paris, 1862.
- Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Кн. 1. Беседы на разные места Св. Писания. СПб., 1898.
- Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 2. Беседы на Послание к Римлянам. СПб., 1903.
- Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. М., 1892.
- Брек И., свящ. Чтение Священного Писания по учению святыхотцов//Альфа и Омега, 2002, No 2 (32).
- Доброцветов П.К. Священное Писание как предмет созерцания у преподобного Максима Исповедника//Альфа и омега. 2006, 2. С. 36-48.
- Дьконов А. Типы высшей богословской школы в древней Церкви III-VI вв.//Христианское чтение. 1913, No 4. С. 495-525; No 5. С. 598-629.
- Казенина Е.Т. Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики//Альфа и Омега. 2001, 3. С. 64-80.
- Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М. 1885.
- Мейер Г. Свт. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания//Православное обозрение, 1889, 10. С. 52-311.
- Нестерова О.Е. Allegoria pro Typologia. Ориген и судьбы иносказательных методов интерпретации Священного Писания. М., 2006.
- Отцы и учители IIIго века/Антология в 2х тт. Т. 2.: Ориген, Григорий Чудотворец, Ипполит Римский, Киприан Карфагенский, МефодийОлимпийский. М., 1996.
- Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2004.
- Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философскобогословской мысли. М:., 2006.
- Сагарда Н.И. Древнецерковная богословская наука на греческом Востоке в период расцвета (IV-V вв.): Ее главнейшие направления и характерные особенности/Речь на годичном акте СПБДА 17го февраля 1910 г.//Сагарда Н. И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. СПб., 2004.
- Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. СПб., 2004.
- Сольский С.М. Краткий очерк истории священной библиологии и экзегетики//Труды Киевской духовной академии, 1866, No 10. С. 157-190. No 11. С. 305-342. No 12. С. 466-506.
- Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV в. Сергиев Посад, 1999.
- Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. Bd. III. Freiburg, 1912.
- Baur C. John Chrysostom and his Time. London-Glasgow, 1959.
- Breck J., Fr. Orthodox Principies of Biblical Interpretation//St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1996, 40.
- Kannengiesser С. Handbook of Patristik Exegesis, The Bible in Ancient Christianity. Vol. II. Boston, 2004.
- Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.
- McNeil B. Typology//A Dictionary of Biblical Interpretation/Ed. by R.G. Coggins, J.L. Houlden. London. 1990.
- Nassif B. The Spiritual Exegesis of Scripture: The School of Antioch Revisited//Anglican Theological Review, 1993, 75. Р. 437-490.
- Norris R.A. Antiochene Interpretation//A Dictionary of Biblical Interpretation/Ed. by R.G. Coggins, J.L. Houlden. London, 1990.
- Seisdedos F.A. La “theoria” antiquena//Estudios Biblicos, 1951, 11. P. 60.
- Ternant P. La “theoria” d’Antioche dans le cadre des sens de l’Ecriture//Biblica, 1953, 34. P. 135-158, 354-383, 456-486.
- Vaccari A. La Θεωρία nella scuola Esegetica di. Antiochia. Roma, 1920.
- Young F.A. Alexandrian Interpretation//A Dictionary of Biblical Interpretation/Ed. by R.G. Coggins, J. L. Houlden. London. 1990.
- Young F.M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge. 1997.