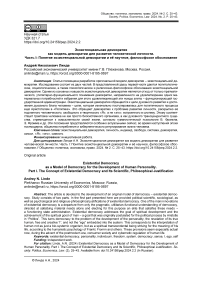Экзистенциальная демократия как модель демократии для развития человеческой личности. Часть I: понятие экзистенциальной демократии и её научное, философское обоснование
Автор: Линде А.Н.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разработке оригинальной модели демократии - экзистенциальной демократии. Исследование состоит из двух частей. В представленной здесь первой части даются политологическое, социологическое, а также психологическое и религиозно-философское обоснования экзистенциальной демократии. Одним из основных новшеств экзистенциальной демократии является отход от только прагматического, утилитарно-функционального понимания демократии, направленного на удовлетворение одних материальных потребностей и избрания для этого удовлетворяющей эти нужды элиты - функционирующей государственной администрации. Экзистенциальная демократия обращается к цели духовного развития и достижения духовного блага человека - цели, которая изначально постулировалась для политического процесса ещё Аристотелем в «Политике». Это обращает демократию к проблеме развития личности, раскрытию её подлинного человеческого, свободного и творческого «Я», а не «эго», встроенного в систему. Этому соответствует трактовка человека не как просто биосистемного организма, а как духовного трансцендентного существа, стремящегося к осмысленности своей жизни, согласно гуманистической психологии В. Франкла, Э. Фромма и др. Эти положения представляются особенно актуальными сейчас, во время наступления эпохи постмодерна, общества потребления и кибернетического регулирования жизни человека.
Экзистенциальная демократия, личность, индивид, свобода, система, демократия, смысл,
Короткий адрес: https://sciup.org/149145319
IDR: 149145319 | УДК: 321.7 | DOI: 10.24158/pep.2024.2.2
Текст научной статьи Экзистенциальная демократия как модель демократии для развития человеческой личности. Часть I: понятие экзистенциальной демократии и её научное, философское обоснование
Введение . В данной работе мы предлагаем оригинальную, новую модель демократии – экзистенциальную демократию. Мы считаем, что она особенно важна со следующей, человеческой точки зрения.
Так, в целом, различные модели демократии, развивавшиеся с XVIII в. до современности, в основном были связаны с чисто внешней, социальной, политической стороной жизни человека, но не с внутренней, духовной, сущностной составляющей человека, его «самостью» и подлинной природой. Затрагивались не самые глубинные сферы жизни человека – например, его избирательные права, его формальная, политическая, но не духовная свобода, удовлетворение социально-политических потребностей, голосование за ту или иную партию, но не создание условий для раскрытия человеческой души. Правда, ещё до расцвета демократических теорий в XVIII–XIX вв. Аристотель отмечал духовные основания жизни человека в близкой к демократии «политии», говоря о том, что политика – это высшая форма общения между людьми, которое «обнимает... все остальные общения» (Аристотель, 1983: 376) в социуме и осуществляется ради действительно благой жизни всех граждан. Получается, что изначально, ещё в аристотелевские времена, демократия понималась как средство для достижения людьми духовно благой жизни, а другое понимание демократии как просто определённой формальной политической системы появилось только в Новое время. Также в наше время о сохранении «духовного» жизненного мира в обществе писал Ю. Хабермас во взаимосвязи с его моделью делиберативной демократии (Habermas, 1996: 17–27).
Но, по существу, в современности различными политическими учёными, как минимум со времени работ экономиста Й. Шумпетера (Шумпетер, 1995), основной целью демократии рассматривается только избрание конкурирующих между собой элит. Подход Й. Шумпетера оказал значительное влияние на теорию демократии в целом, в том числе на полиархию Р. Даля, экономическую модель Э. Даунса, делегативную демократию Г. О'Доннелла и другие подходы. Но в них никак не анализируется ценность демократии с точки зрения развития личности человека и помощи ему в сфере духовных, а не только материальных потребностей. Изучалась только «техническая», формальная составляющая демократии, заключающаяся в процедуре выборов, но не духовная сторона – самого сознания человека, в котором совершается экзистенциальный выбор в пользу тех или иных партий и политиков. В элитарных подходах к демократии не рассматривались сами экзистенциальные вопросы человеческой жизни и не изучалось, как развить общественное устройство, чтобы оно способствовало реализации подлинной духовной природы каждым человеком, понимаемом не в качестве функционера системы и оператора государственного технического механизма, а в качестве настоящей личности.
Мы же предлагаем некоторый «поворот» в исследованиях демократии, направляя демократию на решение глубинных, экзистенциальных вопросов человеческой жизни, самого существования личности человека, а не на одни технические вопросы функционирования парламентских институтов и правильного воспроизведения государственной системы, удовлетворяющей элиты – всех власть предержащих. Демократия должна стремиться к обеспечению не только материально достойной жизни, но и к действительной благой жизни абсолютно всех граждан общества, к осуществлению подлинного общего блага всех людей.
Кроме элитарного характера и направленности на удовлетворение чисто потребительских вопросов в современной теории демократии, наша работа представляется актуальной и из-за чисто практических проблем в жизни современных обществ. Так, известно, что после периода модерна с его культом личности, её творчества и разума, сейчас в большинстве постиндустриальных обществ наступила эпоха постмодерна – с тотальным обезличиванием, забвением подлинного духовного творчества и дискредитировавшим себя разумом (но с превозношением прагматической рациональности). Этому процессу сопутствует становление массового общества и общества потребления, низводящих духовные стороны жизни общества до ненужных. Но и само управление такими обществами становится всё более всепроникающим и регулирующим жизни граждан. И, если в некоторых восточных странах эта цель управляемости индивида ставится открыто, то в других, западных странах это производится латентно: основанная на информированности власть корпораций над потребителем всё дальше и дальше проводит по «дороге к цифровому тоталитаризму» (Hendricks, Vestergaard, 2019). Этому можно противопоставить подлинное демократическое самоуправление граждан.
Так, на наш взгляд, подлинная демократия является наиболее удачным политическим режимом с точки зрения развития человека, свободного проявления его настоящей, духовной природы и становления его как личности. Поэтому необходимо разработать модель демократии, которая служит не только материальным, функциональным, но и духовным, экзистенциальным задачам жизни человека и организует для их решения все возможные социально-политические институты. И более того: во-первых, мы ставим в демократии во главу угла развитие духовного, культурного уровня жизни общества, в отличие от марксизма, который говорил в большей степени о материально-экономическом прогрессе, якобы детерминирующем всё духовное как надстройку. И, во-вторых, результаты прогресса духовной сферы не должны быть достоянием только одиночек или элиты – государственно-административной или культурной. Развитие духовного жизненного мира лучше направить и на понимание и дальнейшее формирование более прогрессивных социальнополитических институтов всего общества, создаваемых при более высоком культурном уровне развития граждан. Но такое преобразование жизни социума, подобное участие людей в улучшении жизни общества возможно только через политику, понимаемую не как управление элитами обществом, а как всеобщее республиканское самоуправление, позволяющее изменять к лучшему существующие институты. Это должно в свою очередь способствовать развитию личности и её эмансипации. Поэтому именно освобождению человека и развитию его духовного потенциала отвечает разработанная и предлагаемая нами модель экзистенциальной демократии.
При этом мы говорим не просто о новой идее, концепции демократии, а именно об определённой, новой модели демократии – в том значении, в котором «модель демократии» понимал ведущий исследователь демократического правления Д. Хелд1.
Следовательно, основная цель данного исследования – разработать и проанализировать такую новую модель экзистенциальной демократии, её основные философские и практические принципы, положения, а также определить, как именно в ней обеспечивается полноценное, свободное, духовное развитие каждой человеческой личности как свободного гражданина республики.
Структура исследования . Данное исследование разделено на две части. В первой (I) даётся определение экзистенциальной демократии, выявляются её основные черты и даётся обоснование философии, положенной в основу экзистенциальной демократии, с политической, социологической, религиозно-философской и психологической точек зрения. Во второй части (II) предлагаются и анализируются уже конкретные теоретические принципы и практические предложения, которые необходимы, чтобы экзистенциальная демократия могла бы состояться, – всего 17 положений. Они включают в себя как философские принципы, так и практико-ориентированные идеи, например, конкретные предложения по демократизации обществ в пункте 4 и обоснование важности безусловного базового дохода в пункте 12 и т.д. В заключение статьи приводятся основные выводы исследования.
Оригинальность и новизна понятия экзистенциальной демократии и этого исследования в целом. Дадим обоснование оригинальности и новизны данного исследования в целом. В этой статье не только даётся сам термин «экзистенциальная демократия», но и предлагается его оригинальное определение, определяются социологически-политологические, психологические и религиозно-философские основания экзистенциальной демократии, а также определяются философские и практические принципы, необходимые для полноценной реализации этой модели демократии.
Поэтому, говоря об оригинальности и новизне статьи, укажем, что на основе научного поиска было установлено: сам термин «экзистенциальная демократия» больше не упоминается ни в одной работе. За одним небольшим исключением: хотя в 2015 г. К. Пралиа опубликовал статью «Экзистенциальная демократия и её публичный интеллектуал» (Pralea, 2015), но на поверку оказывается, что учёный не дал в ней никакого определения экзистенциальной демократии, не привёл её обоснования, да и вообще само словосочетание «экзистенциальная демократия» употребляется им в самой последней строчке всей статьи. Таким образом, за понятием «экзистенциальная демократия» в статье нет конкретного содержания, тем более пересекающегося с нашими идеями, а сама статья К. Пралиа посвящена, скорее, обоснованию роли интеллектуала в новом, информационном обществе, что также расходится с содержанием нашей статьи.
На основе этого можно утверждать, что данная статья обладает новизной и оригинальностью.
Определение экзистенциальной демократии и её основные черты . Данная модель экзистенциальной демократии, оригинальная в своей основе, также творчески переосмысляет идеи, включённые в различные философские теории и политико-научные исследования. Модель экзистенциальной демократии опирается как на философские, так и на политологические основы, она основана также и на идеях русских и европейских мыслителей и поэтому является результатом диалога российской и европейской политической философии и политической науки.
Модель экзистенциальной демократии находится под следующим влиянием философских теорий и политико-научных подходов.
В своей философской основе эта модель демократии опирается на:
-
1. Философию экзистенциализма и прежде всего на разработанные в её рамках идеи свободной личности, значимости её подлинного «Я» и её экзистенциального творчества, представленные рядом философов, особенно российским философом Н.А. Бердяевым.
-
2. Критическую теорию (в разных авторских версиях) Франкфуртской школы, направленную на преодоление: порабощения человеческой личности социально-политическими структурами, манипуляции сознанием преследующими корыстные интересы идеологиями, а также отчуждённости от людей государственной и экономической систем в целом. Это всё экзистенциальные вопросы, что говорит о том, что критическая теория имеет и экзистенциальное начало. Среди наиболее повлиявших на нас мыслителей – М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм и в особенности Ю. Хабермас, отделивший в социуме уровни «жизненного мира» и «системы», что принимается и нами.
В основе экзистенциальной демократии для нас наиболее значима следующая идея, опирающаяся как на экзистенциализм, так и на критическую теорию Франкфуртской школы. Мы полагаем, что можно выделить два основных модуса бытия человека: существование в качестве человеческого «Я» или функционирование в качестве части-элемента «системы». Если в качестве «я» человек раскрывает себя, существует как личность, реализует свой творческий потенциал – то как элемент системы человек отчуждается от своего «я» и овеществляется системой – и служит общей системе как целому, функционирует в качестве управляемого винтика-единицы кибернетически руководимой системы, решает задачи подчиняющей его структуры, но не свои собственные, аутентичные для его «я» задачи. Различаются два модуса существования: в функционировании в системе человек механистически действует как только биологически-системный организм, в осуществлении своего «я» человек существует как трансцендентная духовная сущность. На осуществление духовного модуса существования для каждого человека и направлена экзистенциальная демократия.
Данная дихотомия, разделение на «я» и «систему», не является только нашей собственной разработкой, но оно также было неоднократно представлено в качестве основной темы у многих философов и учёных. Наиболее близко ему разделение на «жизненный мир» и «систему» у Ю. Хабермаса, на «Царство Духа» и «Царство Кесаря» у Н.А. Бердяева, на «коммунитас»-анти-структуру и структуру у социолога В. Тёрнера, близко к нему и противопоставление «быть» – «модуса бытия» и «иметь» – «модуса обладания» у Э. Фромма, есть схожие идеи и у других мыслителей, научных исследователей.
Приведём практический пример для лучшего прояснения того, о чём мы пишем. Конечно, мы не считаем, что человек вообще не может нормально действовать в рамках социальных и политических институтов, гражданских или государственных. Но важна та установка сознания, мышления человека, с которой он осуществляет работу или другую социальную деятельность, то, насколько эта работа является выражением сущности самого человека, вкладывает ли он в свои действия творческую составляющую. Например, если преподавателя даже частного, негосударственного института администрация вынуждает ставить определённые оценки студентам без соответствующих баллу знаний, то такой преподаватель включен в овеществляющую его систему отношений, в которой он подчинён и отчуждён от собственного решения, своего «Я». Напротив, если лектор и в структурированном государственном университете может творчески изложить на занятиях собственные научные мысли, оригинально и аутентично, креативно их формируя и излагая, то такой преподаватель не становится элементом системы, а напротив, свободно реализует своё «Я», творческое начало, просто используя для этого существующие социальные институты – на благо себе и услышавшим его личностям. Эти примеры можно продолжить и далее, например, противопоставляя личность и преступную систему в тоталитарных режимах или даже изучая сопротивление личности современным навязываемым ценностям обществ потребления в неолиберальных демократиях.
Важно также указать, что система – это во многом не только реальное, практическое соотношение акторов и институтов в функциональной взаимосвязи, но также и определённое состояние мышления человека, подчинённого системе, доминирующей над ним. Само сознание человека перестраивается в зависимости от того, проявляет ли человек своё «я» или встроился в подавляющую его личность систему. Но верно также и другое: не только система есть определённое внутреннее состояние ума, порабощающее его, но также система есть и продукт ума определённого человека, привнесённая этим умом извне для управления другими людьми. К сожалению, люди не всегда жили в справедливых отношениях друг с другом, а иногда подчинялись системам, узаконивающим рабство или эксплуатацию детского труда – и такая система даже защищалась мыслью своего времени, например, как рабство узаконивалось в системе Аристотеля (Аристотель, 1983: 380–384). В результате изначально рождённые равными и свободными люди не всегда могут жить свободно и равно, так как подчинены выдуманной тем или иным демиургом системе – по знаменитой формуле Руссо, «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах»1.
Мы видим этому безвольному подчинению людей системе две возможных альтернативы. Во-первых, радикальные постструктуралисты и постмодернисты определяют вообще все существующие отношения между людьми как системные конструкции, формы принуждающего конструирования социальных институтов, но тогда тотальное сопротивление и неподчинение всем им приводит к анархии, бунту и хаосу. Навряд ли был бы другой исход у полностью симулированного мира и окончательного ухода из него по Ж. Бодрийяру или у предшествовавшего ему индивидуалистического анархизма Макса Штирнера, предполагающего разрушение всех препятствий на пути «эго». Поэтому мы придерживаемся другой альтернативы: видя в обществе и живые, естественные начала, люди, ориентированные на духовное преобразование социума, должны постепенно совместно развивать друг с другом более справедливые отношения, служащие позитивному раскрытию «Я» каждого человека. Это преобразование общества, творческое создание новых институтов происходят, например, на основе экзистенциально принимаемого всеми и достигнутого в диалоге общественного договора, на основе философских и религиозных учений мировых мыслителей, норм морали и просто здравого смысла. Но при этом никогда не нарушая права и жизнь другого человека и сохраняя положительные достижения прошлого. Этому как раз и служит экзистенциальная демократия, и в таких гармоничных отношениях люди будут одновременно свободными и равными.
Также экзистенциальная демократия основана и на политико-научных исследованиях, опираясь на следующие модели демократии и идеи:
-
1. Модель социальной либеральной демократии развития Дж. Ст. Милля и др. (но не современной неолиберальной демократии).
-
2. Модель творческой демократии Дж. Дьюи.
-
3. Концепция экзистенциального «пространства публичного» Х. Арендт.
-
4. Модель партисипаторной демократии К. Пейтман и др.
-
5. Модель делиберативной демократии Ю. Хабермаса.
Дадим определение модели экзистенциальной демократии. Экзистенциальная демократия – демократия, направленная на то, чтобы каждый человек являлся свободной, цельной, развитой личностью, а не обусловленным системой техническим, духовно неразвитым индивидом, и с этой целью создающая возможности для каждого гражданина раскрыть и реализовать своё подлинное «Я», свою «самость», свою личность, свой уникальный внутренний «жизненный мир» таким образом, чтобы человек проявил себя как трансцендентная духовная сущность, а не просто как биосоциальный организм. Это осуществляется, когда каждый человек не определяет себя через производимые социальные практики и функции во внешней системе и её требования, не воспринимает себя через создаваемые системой конструкции, служащие для измерения формальных показателей человека, а реализует себя через свою жизнь по своей собственной внутренней природе.
Подлинная, экзистенциальная демократия должна обеспечивать каждому человеку возможность жить как действительно свободная личность и поощрять его стремление развиваться в качестве свободной личности. Это демократически осуществляется как на практическом, институциональном уровне – устанавливаемых гражданско-общественных и государственных институтов на местном и федеральном уровнях, так и на идеальном, культурном – на уровне социальной и политической культуры жизни общества.
Следовательно, это особая модель демократии, способствующая в отношении социального действия, чтобы каждый человек жил не по внешнему принуждению системы, а по своей собственной внутренней воле, реализуя себя в том числе и непосредственно через свободную демократическую политическую сферу. С точки зрения человеческой природы экзистенциальная демократия обеспечивает существование человека не как составляющей системы, а как автономной, независимой личности, и способствует, чтобы человек существовал не механически, как живой робот или «желающая машина»1 среди других составляющих систему машин, а экзистенциально, как живое, духовное, чувствующее существо среди таких же индивидуальных живых людей-личностей.
При этом экзистенциальная демократия вовсе не приводит человека к солипсизму, изолированности, себялюбивому эгоизму. Напротив, как мы подробнее покажем далее, переход людей с уровня «системы» на уровень собственного «Я» в его подлинности помогает и в принципах взаимодействия людей друг с другом перейти к более глубоким, экзистенциальным взаимоотношениям друг с другом, предполагающим полноценный диалог, эмпатию и взаимопонимание друг друга как личностей. Такой тип взаимодействия людей как свободных личностей концептуализирован на философском уровне М. Бубером в понятии «коммьюнити», Н.А. Бердяевым в понятии «коммюнотарность» и на социологическом уровне В. Тёрнером в понятии «коммунитас». Напротив, это недостижимо на уровне системы, где каждый общается с каждым только как с объектом функциональных взаимоотношений и никогда не выходит за их рамки, установленные для него извне системной иерархией и субординацией.
В экзистенциальной демократии важно и следующее соотношение между личностью и системой. В такой модели демократии не система в целом как некая эмерджентная целостность ставится во главу угла, а каждая отдельная и по своей природе уникальная личность и все составляющие общество личности воспринимаются как высшая ценность, при этом имеющая трансцендентный характер, так как личность не сводится к одному механистическому существованию, а включает в себя смысловой, духовный, в целом, высший идеальный уровень жизни, имеющий самостоятельное значение, что будет обосновано нами в статье на социологическом, религиозном, психологическом и государственно-управленческом уровнях. При признании личностей высшей ценностью внешняя система только функционально служит им, а руководители системы являются только служителями, демократически избираемыми исполнителями, не ставящими себя выше и не считающими себя более значимыми, чем ни одна из личностей в обществе.
Признавая трансцендентный характер личности, экзистенциальная демократия отличается и от современного постмодернистского образа мышления и обществ постмодерна. Они, напротив, стремятся отменить всякую трансцендентность и, вслед за богоборческим мыслителем Ф. Ницше провозглашая смерть трансцендентного Бога, с нашей точки зрения, тем самым провозглашают и конец подлинного человека в его истинной сущности2, которую стремится поддерживать экзистенциальная демократия.
Следуя за признанием высшего значения личности и её отличия от системы, мы предлагаем добавить ещё один очень важный критерий к разграничению демократии и тоталитаризма, по сравнению, например, с классическими признаками политических режимов Х. Линца и А. Степана. Этим экзистенциальным критерием является то, могут ли в обществе люди жить как подлинные личности, реализуя свою самость и не встречая для этого препятствий, или они являются просто объективируемой вещью, принуждаемой к функционированию по неизменяемым предписаниям созданной извне системы. Следовательно, наибольшее творческое развитие личности характерно для экзистенциальной демократии, а наименьшее, с заданным функционированием человека, – для жёсткого тоталитаризма. Таким образом, при применении данного экзистенциального критерия к жизни обществ можно различать подлинную демократию и авторитарные, тоталитарные режимы.
Обоснование духовной природы личности как основа экзистенциальной демократии. Республиканское прочтение политики как средства для реализации личности в жизни общества . Особенно важно указать, что в нашем подходе мы основываемся на другом понимании человека и его стремлений, чем во взаимосвязанных друг с другом философском утилитаризме, экономическом детерминизме, теории рационального выбора и в построенных на них сугубо утилитарных, в основном либеральных моделях демократии. Так, основываясь на идеях гуманистических психологов и особенно Виктора Франкла (Франкл, 1990), мы считаем, что человек – это существо, прежде всего стремящееся к экзистенциальной осмысленности своей жизни, к нахождению личного, собственного смысла своей жизни в целом и каждого своего отдельного действия в частности. Действительно, каждый человек, проживая свою жизнь и совершая действия по своей работе, если не будет видеть за ними никакого личного смысла и будет принуждён существовать чисто функционально, то от бессмысленности либо станет безжизненным «человеком-автоматом», либо совершит суицидальные действия, либо уйдёт в «эскапизм» от жизни в виде бесконечного просмотра сериалов, видеоигр или вредных зависимостей.
Напротив, представители утилитаризма, особенно его основатель И. Бентам, утверждают, что практически единственная цель человека в жизни – это получение наслаждения, максимизация наслаждения при минимизации затрат на него, человек – это «существо наслаждающееся». Поэтому вся жизнь человека якобы связана не со смыслом, а «с получением удовольствий» (Прокофьев, 2019: 198), причём не духовного, а сугубо гедонистического плана – утилитаристы понимают всю «психологию людей… сугубо гедонистической» (Прокофьев, 2019: 199). Но такое гедонистическое прочтение природы человека приводит и к определённому видению политики и демократии. Так, большинство моделей демократии основано на том, что для граждан наиболее значима именно максимизация наслаждений, и, следовательно, основная и чуть ли не единственная цель демократической администрации государства – «максимизация общественного благосостояния» (Downs, 1957: 135). Поэтому в современной либеральной демократии и утверждается, что основная задача граждан – это просто получение удовольствия, достигаемого при выборе себе управляющей администрации, основная цель которой – максимизация наслаждений управляемых людей. А связанные с их смыслом жизни какие-либо более духовные, смыслообразующие задачи граждане не должны решать через политику, не должны ради них принимать прямое политическое участие. Такое понимание политики и демократии приводит к отчуждению администрации от граждан и перерождению демократии в лучшем случае в элитарную демократию.
В противоположность этому, следуя за В. Франклом и Ш. Бюлер, мы утверждаем, что наслаждение – это хоть и важная, но сопутствующая составляющая к основному для человека – к достижению им смысла в жизни, и «принцип наслаждения, равно как и стремление к власти, – это лишь производные от стремления к смыслу» (Франкл, 1990: 57). Вся человеческая «жизнь… имеет направленность… цель. Эта цель – придать жизни смысл» (Buhler, 1965: 54), и человек «по своей природе изначально направлен на созидание и на ценности» (Buhler, 1965: 54). Такое видение человека как существа, стремящегося к смыслу, предполагает и другое понимание политики и демократии, отличное от либерально-элитарной трактовки.
И данные выводы о смысле как основополагающей составляющей жизни человека и его действий делали не только психологи, но и проводившие практические исследования современные социологи, например, Джеффри Александер. Он в своих работах показал в противоположность системно-функциональному подходу, что культура как вместилище смыслов является вовсе не зависимой переменной от общей системы, а «независимой переменной» (Александер, 2013: 59), и поэтому все «смыслы произвольны и … в известной степени автономны по отношению к социальной детерминации» (Александер, 2013: 89). Но тогда и все социальные действия людей не являются абсолютно техническими, целенаправленными, инструментальными действиями, но всегда ориентированы и на смысл, на осмысленность действия человека, «всякое действие … в некоторой степени встроено в горизонт … смысла» (Александер, 2013: 58). Но и более того, как утверждает Дж. Александер, не только люди, но и все социальные «институты … обладают идеальным основанием» (Александер, 2013: 59), смыслом их создания и деятельности, и этот переживаемый людьми смысл институтов «обеспечивает структурированный контекст для споров по поводу их легитимности» (Александер, 2013: 59). Поэтому задачи экзистенциальной демократии – сохранить и развивать смысловую составляющую человеческой жизни, поддерживать независимость культуры, её раскрытие, наполнять все социально-политические институты смыслом и реформировать их или создавать новые в соответствии со смыслами, субъективно вкладываемыми в институты самими гражданами.
Но тогда возникает вопрос, каким же образом возможна подлинная реализация в обществе человеческой личности? Мы полагаем, что полностью выразить свою экзистенциальную сущность человек может только через политику, через политическое преобразование окружающего мира, социальных институтов, реализацию собственного субъективного «я» в этих социальных формах, принципах совместного общежития, но через политику, понимаемую определённым образом. Человек в этом отношении действительно является существом политическим, согласно Аристотелю.
Тогда, предлагая такое понимание реализации человеческого «я» именно через политику, мы предлагаем и определенную парадигму восприятия политики, не современную либеральную и не консервативную, а, скорее, республиканскую, идущую ещё от Аристотеля и Цицерона. Тогда политика понимается не как неолиберальная борьба конкурирующих элит за голоса управляемых ими избирателей, голосующих за отчужденных от них лидеров, и не как утверждение однонаправленной власти – управления индивида А над индивидом Б, приносящей выгоды управляющему. Напротив, индивид Б вообще не может получать подлинные духовные блага и быть искренне счастлив, когда он целиком и полностью управляем и перед ним сверху вниз однонаправленно ставят задачи, заставляя неукоснительно и не творчески их выполнять. Человек может быть подлинно счастлив, только когда он осуществляет самополагание и самореализацию, самоуправление, осуществляя собственный духовный рост, не запрограммированный извне другим человеком1.
Поэтому мы предлагаем другое понимание политики, согласно которому политика – это деятельность свободных личностей-граждан, направленная на решение общественных вопросов и проблем при помощи личного или совместного участия и соучастия, действия и взаимодействия по урегулированию этих общественных вопросов. При этом данная политическая деятельность служит не только и не столько решению одних материальных проблем, но и прежде всего самосовершенствованию людей и достижению ими духовно «благой жизни» (Аристотель, 1983: 378) в соответствии с принципами Аристотеля2.
Действительно, политика в таком прочтении носит вовсе не технически-инструментальный характер, а как согласование вопросов совместной жизни людей отвечает самому существованию людей и выражает их различные, но способные к согласованию экзистенциальные видения своей и общественной жизни. На то, что в подлинно человеческой жизни идёт сущностное согласование смыслов через политику, указывал и Ю. Хабермас. Он показал, что сущностью политического является символическое самопредставление, «коллективное самопонимание сообщества, отличающееся от племенных обществ рефлексивным поворотом к сознательной, а не спонтанной форме социальной интеграции»3.
Сущность человеческой личности . Проблема существования подлинной личности и её развития издавна осмыслялась в философии, изучалась в социальных науках. Особенно остро существование личности изучалось в экзистенциальной философии, изучалась личность и в политической науке. Тем не менее как в философии, так и в социальных науках применялись разные методы для осмысления такого явления, как личность, учёные по-разному ставили исследовательские вопросы, личности давали разные определения. Мы полагаем, что поэтому было бы особенно интересно провести к исследованию личности синтез экзистенциализма и политической науки, чтобы как можно глубже и подробнее определить сущность личности. Подобного рода синтез уже применялся в социальных науках, например, Максом Вебером, объединившим принципы философии жизни (предшественницы экзистенциализма) и свою «понимающую» социологию (Вебер, 2021) в успешных социально-политических исследованиях.
Так, с нашей точки зрения, фундаментально различны «социальный индивид» и «свободная личность». На это различие указывал ещё Н.А. Бердяев, говоря, что «индивидуум есть категория натуралистическая, биологическая, социологическая. Индивидуум есть неделимое в отношении к какому-то целому, атом … он непременно мыслится, как часть целого … Человек есть также личность … Личность есть свобода и независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству …» (Бердяев, 2010: 32). Поэтому духовно развивающаяся личность и социально программируемый индивид на глубинном уровне различны. Следовательно, мы утверждаем, что человек может существовать в двух «идеальных» ситуациях: либо как социальный индивид, механически функционирующий по авторитарно установленным нормам и ценностям социума как государственной системы, либо как свободная личность, существующая по законам, публично обсуждённым и лично согласованным в обществе как союзе и содружестве всех входящих в него людей как личностей.
Безусловно, существуют различные концепции понимания природы человека, того, чем она определяется. С одной стороны, есть множество подходов, анализирующих человека как только биологическое существо, исполняющего определённые социальные функции. Такое «биосоциальное определение» (Холл, Линдсей, 1997: 24) ценность каждой личности «соотносит … с “социальной стимульной ценностью” индивида» (Холл, Линдсей, 1997: 24). Например, есть понимание, что сущность природы человека определяется тем, какие социальные практики он исполняет и как он взаимодействует с другими практиками людей. В системно-функциональном подходе природа человека ещё менее духовна, она представляет собой только те функции, которые индивид исполняет в обществе, человек представляется только лишь как технический механизм с функциональными задачами среди других людей – технических механизмов. Но тогда в обоих подходах сама природа разных людей не равна друг другу, так как природа детерминируется социальными практиками или функциями, которые у всех людей различны, и одни люди намного значимее других в соответствии с большими функциями, есть и вообще сакральные, неприкосновенные функционеры, например, занявшие место во главе всей системы и управляющие ей. Но это противоречит идее равенства природы людей между собой и перед Богом, выраженной и в христианстве. А также противоречит и связанной с равенством перед Богом идеей равенства людей в демократии: все люди должны обладать равенством между собой в сфере политики и в отношении к ним правящей власти.
Поэтому мы предлагаем другое понимание природы человека, согласно которому чисто биосистемные подходы упускают важную составляющую сущности человеческой личности. Мы исходим из понимания человека в гуманистической психологии, гуманистически-экзистенци-альной философии, когда не поверхностная, формальная, чисто биологическая природа человека первозначна, а когда подлинная природа человека – это трансцендентная духовная сущность. Природа человека духовна по своему происхождению и у каждого человека одинакова по своей духовной сотворённости, а потому природа людей равна друг другу и одинаково значима. Как писал Ф.М. Достоевский, каждому человеку необходимо опираться на «безмерное и бесконечное», на «Великую мысль», и «если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии»1. И не только в избранных, а абсолютно в каждом человеке «заключена всё та же вечная Великая мысль»2, что также говорит о всеобщем равенстве людей. Таким образом, в отличие от системно-функционального подхода, люди, обладая общей духовной природой, равны перед Богом и равны между собой. Этот христианский принцип равенства всех людей по своей духовной природе также стал основой принципа равенства людей в демократии, на что указывают различные учёные, в том числе современный исследователь равенства Фердинанд Маунт3. Это христианское утверждение также является и основанием экзистенциальной демократии, её принципа равенства всех граждан между друг другом. Это будет особенно важно при дальнейшем анализе нами сущности личности.
Теперь дадим определение личности. С нашей точки зрения, подлинная человеческая личность – это трансцендентная духовная сущность, обладающая собственным независимым сознанием и переживающая в нём экзистенциально значимые смыслы, ценности, предпочтения, также неповторимая в своей индивидуальности, изначально целостная в своей сущности. Важно, что термин «трансценденция» по отношению к человеческой личности употреблён нами совершенно неслучайно. Он отсылает к надматериальной сущности человека, личности. Так, А.В. Михайловский говорит о том, что знаменитый экзистенциальный философ М. Хайдеггер считал трансцен-денцию фундаментом к «основной структуре субъективности» (Михайловский, 2014: 54), то есть условием для раскрытия человеческой индивидуальности в подлинной духовной жизни Dasein, а не в обыденном функционировании Das Man. Для личности также важен диалог с Другим, в котором два человека и более признают друг друга в качестве неповторимой личности.
К сожалению, в большинстве зарубежных стран в основу политики положено именно био-логически-системное понимание природы человека. В современных «обществах потребления» государственная политика и экономика направлены на удовлетворение чисто биологических потребностей людей – потребителей неолиберальной капиталистической системы. Эти потребности не поднимаются сильно выше первых ступеней «пирамиды потребностей» А. Маслоу, а подлинно духовное развитие человека не ставится задачей политики государств – такое духовное развитие, которому, по А. Маслоу (Маслоу, 2013), соответствует самоактуализация, вершина этой пирамиды потребностей. При такой политике духовная, культурная сфера жизни рассматривается только как подсистема общей системы, и её ценности и нормы позволяют поддерживать существующую систему, охватывающую людей и подчиняющую их себе. Например, ценности потребления распространяются создающей смыслы «культур-индустрией» западных стран. Или в государстве утверждается, в соответствии с классификацией А. Бергсона, «статическая» религия, служащая подчинению людей, их единомыслию и жёсткой стратификации общества, а не «динамическая» религия, помогающая эмансипации человеческих личностей1. Также не развивается и гуманистическая философия, тоже служащая эмансипации человека во благо: напротив, как в англосаксонских странах, изучается только «онаученная», позитивистская аналитическая философия, почти ничего не дающая для мировоззрения человека и рассмотрения метафизических проблем, или вообще ставится под сомнение значимость существования институтов философии, деятельность людей в которых никак не связана с поддержанием прагматических, неолиберальных, потребительских систем экономики и государства. В противоположность этому экзистенциальная демократия ставит в центр именно духовное развитие человека в высоком смысле, утверждаемое как основное благо человеческой жизни.
Социально-психологические основания экзистенциальной демократии . Для того чтобы лучше прояснить нашу точку зрения насчёт подлинной природы человека, обратимся к современным исследованиям по психологии, подтверждающим наши тезисы. Так, психологи считают, что у каждого человека есть определённая структура личности и в ней существуют, следующие друг за другом, глубинные уровни (см. подробнее: Линде, 2015: 29–36). Сначала на более поверхностном уровне человека находится его чисто социальное «поведение», на более глубоком – его мышление, далее находится не просто мышление, а более глубокое психологическое «понимание» человеком своей жизни, но и это понимание определяют на основном уровне вовсе не рациональные установки и принципы, а человеческие, чувственные психолого-эмоциональные состояния. Наконец, эти эмоциональные состояния опираются уже на психологическую сущность человека и его глубинную духовную природу. Следовательно, именно психологическая сущность и духовная природа лежат в самой основе «я» человека, а вовсе не его поверхностные социальные действия в мире, как утверждает системно-функциональный подход.
Поэтому вовсе не социальное поведение и человеческое рациональное мышление, исполняемые человеком функции определяют его природу, а, напротив, на самом деле именно его субъективная подлинная природа, сущность и психологические состояния определяют его чисто социальные действия и поведение, как доказывается современными психологами.
Это связано также и со следующим спором в социальных науках. Многие современные социологи считают, что наиболее значим именно внешний, формальный статус человека, предписываемые системой действия. Но мы утверждаем, в том числе на основе приведённых выше исследований психологов, что на самом деле для человечества особенно значим вовсе не формальный, функциональный уровень исполнения определённой социальной роли, связанного с ней социального действия человека, а уровень экзистенциальной подлинной духовной природы человека, его духовной жизни, в соответствии с которым человек искренне переживает свою жизнь, собственные, действительно искренние человеческие субъективные чувства, в том числе и по поводу политики. И уже в связи с ними человек осуществляет те или иные социальные действия. Таким образом, на этом субъективном уровне человек реализует именно свою «самость», а не предписанную им кем-то извне функцию, роль, не имеющую никакого отношения к его природе. Именно эти духовные природу и сущность человека, его глубинную личность и подлинное «я» необходимо всячески оберегать и развивать, позволять полностью реализоваться как духовной сущности, чему и служит модель экзистенциальной демократии.
Разные понимания человека и различия между «Я» и «эго» как основ для свободного взаимодействия людей или для их подчинения системе . При этом в данной работе нам необходимо провести различие между разными подходами к индивидуализму и личности. Мы различаем проявление человека как функционирующего в системе и направленного на свою выгоду «эго» и как свободного, духовного и стремящегося к взаимопониманию с другими людьми «Я». Состоянию «эго» соответствует «система», а состоянию «Я» – свободное взаимодействие личностей как «коммунитас», так называемое, например, социологом В. Тёрнером (Тёрнер, 1983).
Это различие будет проще определить, когда мы проясним то, что мы понимаем под «Я» и «эго». При этом данное различие и даже противопоставление «Я» и «эго» не является просто нашей конструкцией – например, «эго» и «самость» различали в своих работах К.Г. Юнг (Юнг, 1994), его последователь М. Кларк и др. (Кларк, 2013).
Мы понимаем «эго» не во фрейдистской интерпретации этого термина, определяющей его как вообще всю сознательную часть человеческой психики. Мы предлагаем другую интерпретацию понятия и полагаем, что «эго» – это стремящаяся к внешним социальным успехам часть индивида, сравнивающая себя с другими и желающая занять определённое положение в сложившихся в социальной системе иерархии и структуре статусов – желательно как можно более высокое положение. Тогда радикальное развитие «эго» может привести к нарциссизму1, и, как пишет современный психолог Р. Грин, взрастившие «эго» нарциссы воспринимают «окружающих как продолжение себя – … самообъекты. Другие люди существуют для них лишь как инструменты … Нарциссы хотят управлять ими, как они управляют собственными руками и ногами» (Грин, 2021: 78). Таким образом, при ориентации на «эго» в обществе между людьми складываются чисто функциональные отношения, возникает иерархия и формируется система, основой чего является именно нездоровое «эго», а не на способное к творчеству «Я» людей.
Но из-за ориентации «эго» на чисто внешнее, формализованное и отсутствия подлинной глубины «такое “эго” становится врагом … настоящего творческого озарения, хорошей работы с другими людьми» (Холидей, 2016: 11) и прочего, связанного с действительно глубокой духовной жизнью человека. Даже если человек, ориентированный на «эго», интересуется какими-то духовными вопросами, то только затем, чтобы занять более высокое место в иерархии системы, «чтобы подороже продать себя на рынке бытия» (Фромм, 2010: 117).
«Я» человека в его подлинном развитии есть «глубинное выражение … индивидуальности»2 личности человека, оно помогает сохранять «единство личности как целого» (Кларк, 2013: 5), и оно прочно связано с человеческой «самостью», которую «можно назвать “богом в нас”», по выражению К.Г. Юнга (Юнг, 1994: 312). Как он писал, «начала всей нашей душевной жизни, кажется, … зарождаются в этой точке, и все высшие и последние цели … сходятся на ней» (Юнг, 1994: 312) – на самости человека, основе его «Я».
Поэтому «Я» есть развитие подлинного, божественного в нас, ведущее через трансцендентность к установлению подлинной, духовной взаимосвязи со всеми людьми. В то время когда «эго» – это формальное, внешнее, поверхностное проявление человека, служащее утверждению индивида в структурных, формализованных и иерархических отношениях и взаимосвязях с ограниченным кругом лиц, что включает человека в систему.
Отличаются и жизненные установки: если человек, следующий «эго», для своего эгоистического самоутверждения в системе стремится к обладанию не только вещами, но и другими людьми – к власти над ними, то, по словам Э. Фромма, «для человека экзистенциального модуса счастье состоит в том, чтобы любить, делиться, жертвовать, то есть жить и давать жить другим» (Фромм, 2010: 127).
При этом характерно, что развитие одного проявления в человеке приводит в нём к снижению другого. Так, развитие человеческого «Я» в его подлинности, творческое самовыражение «Я» личности и его самоактуализация, концептуализированная А. Маслоу, приводят к настоящему становлению человеческой личности, и она уже не нуждается в искажённом, болезненном самоутверждении «эго»3, и человек не встраивается в систему. Напротив, когда «Я» человека подавлено, а следовательно, не раскрыта и основанная на нём человеческая личность, то человеку с неактуализи-рованной личностью очень хочется самоутвердиться в «эго», ориентированном на статус и успех – и, таким образом, человек встраивается в систему и подчиняется ей, становится легко манипулируемым и управляемым.
Рассмотрим применение этих психологических, философских положений на уровне социальной теории. Первым подходом к индивидуальной личности как «эго» является классический, «эгоистический» подход. Конкретно, это отображённый в социальных науках и экономике индивидуализм, взаимосвязанный с теорией рационального выбора. Этот подход обосновывает эгоистичность каждого индивида, его ограниченную рациональность, ориентацию на достижение только сугубо собственных, личных эгоистических целей. В итоге такой подход приводит, скорее, к столкновению «эго» людей – к всеобщей конкуренции и недоверию людей друг к другу. И, следовательно, из-за борьбы всех людей со всеми в этом эгоистическом подходе, конкурирующее общество для смирения противоборства часто переходит к жёсткому, анти-демократическому правлению всесильного государственного аппарата над соперничающими друг с другом людьми, наподобие модели технического, бесчеловечного Левиафана, предложенного Т. Гоббсом1, воспроизведённого сегодня в авторитарном технократическом управлении обществами. Элементы подобного технократического управления обществом мы можем видеть как в современном Китае (Линде, 2020), так и в западных странах.
Другой подход, которому следуем и мы и который находится в основе экзистенциальной демократии, – положение в основе личности её неэгоистического «Я», это религиозно-экзистенциальный, христианско-персоналистский подход. Он рассматривает каждого человека как сотворённую по образу и подобию Божию неповторимую личность, независимую, но не теряющую чувства сопричастности с другими людьми-личностями и преследующую свои личные цели, скорее, в коммуникации, взаимопонимании с другими людьми. Такая личность также достигает свою цель, но действует не чисто эгоистически, не ценой другого человека, рассматриваемого только лишь как своё средство для достижения цели. В христианском подходе действие направлено на благо и другого человека, воспринимаемого именно как цель сам по себе, но не средство для себя. Это приводит не к конкуренции, а к эмпатии, соучастию и взаимодействию людей в сообществе ради достижения общего блага. Поэтому такой духовный подход к личности приводит к мирному сосуществованию людей в сообществе и к достижению в нём подлинной демократии.
Религиозно-философские основания экзистенциальной демократии . Вообще споры о человеке как только лишь об индивиде, выполняющем определённую функцию в подчиняющей его себе нишевой части системы – социальной страте, или как о личности, занимающейся прежде всего собственным духовным саморазвитием в свободном обществе, зарождались ещё как минимум во времена споров индуизма и буддизма о предназначении человека. Проанализируем их подробнее.
Так, изначально в индуистской религии, и конкретно в учении Патанджали, предполагалось, что творец всего мира – Брама, заложил в каждое живое существо частицу себя, и главная задача человека в жизни – это войти в единение с этой частицей Бога в себе, «слиться с этим Высшим Началом воедино» (Буланже, 1903: 10). Но каким образом это достигалось в индуизме? В этой религии предполагалось, что человек достигает духовного совершенства, перерождаясь в разных социальных стратах, кастовых «варнах» общества – брахманов, кшатриев, вайшью или шудр, не сомневаясь ни на секунду, что он должен осуществлять только лишь определённую социальную функцию в этой страте. Таким образом, обосновывалось, что человек должен лишь играть определённую роль в системно-функциональном устройстве общества как верный винтик этого механизма, исполняя только свою социальную функцию. Такой подход навряд ли предполагал развитие подлинного внутреннего «Я» личности, а, скорее, «Я» человека, его «самость» определялась через неукоснительное исполнение определённой социальной роли. Следовательно, требовался другой подход, развивающий духовную сущность личности вне социальных ролей и функций, а на основе самоценности самой личности человека и её развития в соединении со своей истинной сущностью.
Таким подходом стало учение Будды, провозглашавшего, что человеческое «Я» на самом деле развивается вне социальных страт, и на путь духовного совершенствования и достижения «нирваны» может встать каждый человек, стремящийся к духовному саморазвитию. Поэтому этот путь лежит вне социально-государственной системы и исполнения в ней определённых функций, а каждый человек, духовно самосовершенствующийся, с точки зрения Будды, может стать Брахманом, то есть духовной личностью. То есть путь духовного самосовершенствования и воссоединения с частицей Бога в себе открыт каждому человеку, желающему стать полноценной личностью. Поэтому, как считают А.Н. Никитин, А.Х. Саидов, «буддизм стал первым и учением, и религией, обратившимися к человеку не как к представителю какого-либо племени, клана, сословия или определенного пола, а как к личности. Для буддизма в человеке были важны только личные качества»2.
В качестве правила следовать собственному восприятию, раскрывать свою индивидуальность, опираться прежде всего на свою личность может быть воспринят и знаменитый буддистский принцип «Будьте сами своими светильниками». Все эти положения буддизма особенно значимы для нашего подхода к самостоятельному развитию личности, обоснованному на раскрытии её самости, а не на становлении человека как индивида, ставшего винтиком механистической системы.
Также и в христианской религии идея слияния человека с Богом, с божественным началом в людях была всегда чрезвычайно важна. Так, Н.А. Бердяев писал, что «величайшие христианские мистики всех вероисповеданий любовь к Богу и слияние с Богом ставили выше личного спасения» (Бердяев, 2011: 641). Он утверждал, что подлинная христианская религия «и спасение понимает как просветление и преображение, обожение твари, как преодоление замкнутой твар-ности, то есть оторванности от Бога» (Бердяев, 2011: 641), в связи с чем достижение человеком подлинно духовной жизни и становление его «обожёной» личностью ставились основной целью каждого человека и в христианстве.
Затем, идея объединения с божественным началом как главной цели человека развивается и много позже, вплоть до современности, и в трудах не только религиозных деятелей, но и философов. В XX–XXI вв. этот вопрос является одним из ключевых в философских трудах религиозных экзистенциалистов. Так, экзистенциалист Габриэль Марсель утверждал, что «самое большее, что дозволено христианину, – это пробудить в ближнем чувство, что тот – дитя Бо-жие»1, таким образом пробуждая божественное начало в себе и в Другом. Тогда, благодаря такой реализации «самости» людей, и всё общество развивалось бы действительно гармонично.
Тем не менее, как утверждает Г. Марсель, эта гармония не реализована по большей части из-за функций, идущих от системы, стремящихся подключить в себя всех. Эти функции не раскрывают внутреннее содержание человека, а, напротив, превращают человека в «некий агрегат функций» (Марсель, 1995: 73), осуществляющих «отождествление этого человека с его функциями» (Марсель, 1995: 74). Но тогда не развивается божественное начало человека, и направляющие его «сокровенные силы … лишаются точки опоры» (Марсель, 1995: 75). Эту проблему жизни современных «функциональных» обществ необходимо преодолеть.
При этом важно указать и на персонализм – превознесение человеческой личности в этих религиях. Так, в персоналистских направлениях христианства человек – свободная личность, а вовсе не как в некоторых других религиозных системах. Например, в течениях шиваизма в индуизме, где люди – лишь функции от бога, и существуют, не понимая своей несамостоятельности от воли бога, «не зная о том, что на самом деле мы суть образы, функции, аспекты этой его игры, отражения на зеркале его Сознания» (Абхинавагупта, 2013: 128). А «Верховный Владыка творит и разрушает Вселенную, играя в какую-то очень странную, таинственную, непостижимую для непосвященных “игру”» (Абхинавагупта, 2013: 128), и более того, «само развертывание мироздания сопровождается все большим и большим закабалением существ» (Абхинавагупта, 2013: 129). Напротив, в иных религиях, к примеру, в христианстве, Бог творит людей как свободных существ и даёт людям полную свободу воли, разрешает самостоятельность, позволяя человеку «оставаться лишь со свободным решением сердца»2, желая от людей «свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим»3, как было показано Ф.М. Достоевским в «Легенде о Великом инквизиторе»4.
И эти два различных понимания теологии предполагают и два различных понимания политического. Так, если бог предписывает всем людям быть только исполнителями функций в непрестанно конструируемом им мире, не оставляя им никакого личного выбора, то для воплощения такой модели бытия необходимо и регулирующее людей извне государство, в котором его руководитель будет проводником божественной воли и его наместником, через систему государства направляющим по воле бога и всех подданных. Воплощением такого государства будет в лучшем случае абсолютная монархия, а в худшем – объединяющая всех людей в одну волю тоталитарная диктатура, концептуализированная в знаменитой «политической теологии» Карла Шмитта (Шмитт, 2016). Для демократии в такой теологии явно не будет места. Последствия существования таких диктаторских режимов для жизни людей общеизвестны.
Совсем иное понимание политического происходит из теологии, согласно которой люди – свободные субъекты своей жизни, и именно такими они были сотворены Богом. Теология, провозглашающая необходимость существования человека как личности, его свободы и субъектности, пусть и пронизанной свободно принимаемой человеком Божьей благодатью, требует и соответствующего политического режима. Такого, в котором могли бы проявиться позитивное выражение свободы человека, сохранение его субъектности и развитие его личности, занимающейся деятельным творчеством, когда человек не является просто воплощением воли суверена, конструирующего всю политическую действительность. Представляется, что такой политический режим должен быть подлинно демократическим, на уровне политических институтов способствующим реализации людьми названных выше качеств: свободы, субъектности, личного творчества. Но современные неолиберальные общества потребления этим целям способствуют мало, что было показано начиная с Ж. Бодрийяра (Бодрийяр, 2006), правда, не предложившего позитивной альтернативы.
И также именно не материальная, а духовная составляющая действительности определяется здесь основополагающей для становления свободной личности. Человек развивает себя прежде всего на духовном уровне для того, чтобы стать действительно свободным. Безусловно, материальное положение человека, условия его жизни также имеют некоторое значение, но исходный поворот к свободному состоянию осуществляется в сознании человека, в его душе, совершается прежде несвободным человеком при помощи духовной трансценденции человека к его изначальной духовной природе. Несвобода - прежде всего состояние человеческой психики, а не материального тела, и, как обосновывал ещё Э. Фромм, «свобода от внешней власти становится прочным достоянием только в том случае, если внутренние психологические условия позволяют нам утвердить свою индивидуальность» (Фромм, 2012: 230). Таким образом, первично именно сознание человека и его состояния, влияющие на всю человеческую жизнь, и подчинённость системе есть прежде всего определённое состояние ума. Поэтому экзистенциальная демократия стремится именно к духовному развитию человека и через него - к обретению человеком свободы, конечно, с созданием требующихся для этого социальных условий.
Два разных типа мышления как основания для системы и «эго» или личности и её «Я» . Более того, с нашей точки зрения, идеалу доминирования системы или идеалу развития личности соответствуют и два противоположных типа мышления в мире: мышление математи-чески-объясняющее, измеряющее и ранжирующее, в том числе по отношению к людям, и мышление духовно-персоналистское, личностное, понимающее, воспринимающее каждого человека как уникальный феномен, явление. Проанализируем их противоположные следствия.
Так, математическое измерение жизни предполагает постоянное порядковое ранжирование вещей, в том числе и людей, по определённой шкале, имеющей низ и верх. Действительно, точно-научное объяснение стремится определить факты действительности, в том числе и людей, как социальных индивидов путём их «включения ... в структуру определенных связей, отношений и зависимостей»1, то есть обеспечив между фактом и другими окружающими его фактами действительности функциональную зависимость. Соответственно, такое мышление не только в науке, но и в жизни, на практике приводит к определённой иерархической системе, имеющей нижние и верхние уровни.
Такое отношение к человеку приводит, во-первых, к определению его как измеряемой вещи, а, во-вторых, к постановке человека в определённое иерархическое положение, более низкого или более высокого плана, в отношении социальной системы - определяющих положение индивида ранжированных класса, страты, статуса. Тогда, руководствуясь таким математически-измеряющим мышлением, каждый человек стремится занять более высокое положение в системе, борясь и соревнуясь за него, а все люди воспринимаются как конкурирующие соперники. Такой тип мышления позволяет демиургу создать управляемую им систему, когда все люди будут соревноваться друг с другом по определённым демиургом правилам, и таким образом они станут управляемыми им индивидами. Неслучайно на риск применения в государственном управлении системного, кибернетического подхода указывает один из основателей кибернетики Норберт Винер, писавший об опасности использования такой политической техники элитой, отдельной группой «для усиления своего господства над остальной человеческой расой, или в том, что политические лидеры могут ... управлять ... народом посредством ... политической техники ... слабость машины ... не может пока учесть ... область вероятности, которая характеризует человеческую ситуацию. Господство машины предполагает общество, достигшее последних ступенек возрастающей энтропии, где вероятность незначительна ... статистические различия между индивидуумами равны нулю» (Винер, 2001: 184).
Такое управление людьми приводит к превращению их в элементы системы, объективированных индивидов, чья природа извне определена и направляема руководящим демиургом системы. Такова структура классового общества в марксизме. А наиболее радикальное выражение такого измеряющего людей математического мышления представлено в системе социального рейтинга в современном Китае, дающей каждому гражданину определённый математический рейтинг с градациями от нижних положений к высшим. Эта система представляет собой форму нового, математически и кибернетически выверенного технократического управления индивидами.
Но преодолеть подобное управление людьми и их использование в целях системы, то есть её демиургов, поможет вовсе не политическая революция, обещанная К. Марксом, после которой на самом деле возникают новые структурно-функциональные отношения и новое порабощение человека через его объективацию. К. Маркс и социалисты-революционеры предлагали бунт против существующей государственно-экономической системы, после которой должно произойти строительство новой системы, просто более выгодной для других слоёв населения, – требовалась гегемония не буржуазии, но пролетариата, его система правления. Исторические, практические последствия этих процессов, в том числе в раннем СССР, были губительны.
Как мы утверждаем, реальные изменения могут осуществить только отказ в принципе мыслить общество в категориях иерархической системы и сопутствующий этому отказу переход к другим принципам мышления, которые образуют основу экзистенциальной демократии. Действительно помочь людям может принципиально другое мышление, которое мы называем понимающим, духовно-персоналистским, подлинно христианским (но божественную природу личности также утверждали некоторые направления и в других религиях, например, в учениях суфиев в исламе или в упомянутых выше течениях индуизма). Оно противоположно математическому, объясняющему и измеряющему, объективирующему мышлению, напротив, в нём люди не математически объясняются, а понимаются, происходит осознание сущности человека, и с ним происходит сопереживание и сочувствие.
Согласно персоналистскому мышлению, абсолютно каждый человек понимается как неизме-ряемая уникальная сущность, особенная личность, при этом сотворённая по образу и подобию Божьему. Тогда всех людей как уникальных и по-своему неповторимых невозможно ранжировать и измерить – они все одновременно индивидуальные личности и равны друг другу по своей духовной природе. Так, люди не заменяемы один другим, но в тот же момент и не выше и не ниже друг друга, а духовный рост предполагает просто большее самораскрытие без сравнения с другими. Следовательно, такое понимание предполагает и выработку принципиально других отношений между людьми – духовное равенство и уникальность людей предполагают и политическое равенство1, и способность самовыражения каждой личности. В результате это мышление, понимание человека ведут к направленным на личность каждого человека подлинно эгалитарному обществу и к взаимосвязанным с ним республиканскому самоуправлению и аутентичной демократии.
Два подхода к соотношению человека и государства и соответствие им двух сущностей: «Я» и «эго» . Теперь проанализируем, как рассмотренные нами подходы приводят к двум различным пониманиям соотношения человека и государства.
Говоря о реализации духовной природы человека в государстве, мы полагаем, что можно выделить два основных подхода к соотношению человека и государства.
Первый подход – системно-функциональный, согласно которому каждый человек является лишь элементом общей государственной системы, исполняющим строго предписанную ему внешним управлением функцию, и не более того. Этот подход обосновывался в системно-функциональном направлении Т. Парсонсом, Д. Истоном, Н. Луманом, К. Дойчем и др.
Второй подход – экзистенциальный личностный (оформившийся позже как персоналистский), согласно которому каждый человек является индивидуальной личностью, существующей вне системы по своему разумению и в согласовании этой жизни с другими личностями. Личность сотворена по образу и подобию Божьему, и, следовательно, каждая жизнь человека уже изначально ценна сама по себе, а не по функциональным ролям, исполняемым в социуме. Этот подход обосновывается в философии Ф.М. Достоевским, Н.А. Бердяевым, Э. Мунье, К. Ясперсом и повлиял на социологические подходы А. Шютца, П. Бергера и Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля и др. В их подходах обосновывается, что исходной точкой философского и научного анализа должна быть именно личность и её сознание, переживаемые в этом сознании смыслы, которые уже влияют на социальное действие, а вовсе не вся система в целом, якобы эмерджентно превышающая всех соединяющихся в обществе отдельных людей. В этом – противоположность между системно-функциональным и экзистенциальным личностным подходами.
И эти два разных подхода приводят к двум различным формам государства, основанным на отличающемся понимании сущности человека.
Эти формы государства происходят из следующего. Так, функциональный рационализм ставит перед каждым отдельным человеком-индивидом цель наиболее рационально и с наибольшей выгодой для себя взаимодействовать с другими индивидами в жизни и определять всех окружающих людей только как внешних объектов для удовлетворения своих эгоистических потребностей, как функциональные средства для достижения собственных целей.
В результате, когда в обществе каждый индивид следует только эгоистической цели и воспринимает окружающих людей только как функциональные объекты для достижения своих целей, вообще все люди превращаются в функциональные используемые механизмы, перестают быть людьми в подлинном смысле этого слова и встраиваются в функциональное механическое воспроизводство системы, направляемой её создателями-демиургами.
Тогда возникает экзистенциальная проблема для таких людей. Она заключается в том, что подлинная, изначальная природа человека не реализуется сквозь эти механистические функции, задаваемые человеку системой, природа человека зажимается и нарушается в ходе предъявляемых человеку определяющих, «программирующих» его требований, и человеку навязывается, скорее, другая, «вторая» механистическая природа, делающая его встроенным техническим элементом системы. В государстве, направляемом системно-функциональной парадигмой мышления, человек не реализует свою духовную творческую природу, а лишь исполняет заданную для него определённую функцию. Это приводит к формированию механической государственной системы, использующей и расходующей людей как свои внутренние ресурсы.
Следовательно, первый, системно-функциональный, подход приводит к жёсткому правлению над всем обществом и потенциально - к тоталитаризму, всеобщему управлению каждым человеком как только лишь зависимым винтиком государства.
Второй, личностный, экзистенциально-персоналистский подход приводит к особенного рода демократии, основанной на личном участии каждого человека в жизни общества, при помощи его гражданского самоуправления с целью самораскрытия всех личностей, не воспринимающих других людей как функциональные объекты, а стремящихся к справедливому взаимодействию и взаимопониманию с ними. Из достижения взаимопонимания между людьми становится возможным и взаимное демократическое конструирование гражданами правил, по которым будет жить всё сообщество. А если общество развивается по федеративному принципу многообразия, будут немного по-разному жить различные группы этого сообщества, достигнув во взаимопонимании консенсуса на федеральном и на местном уровнях.
Таким образом, авторитаризм и тоталитаризм стремятся сформировать человека как просто социального индивида, без его подлинной природы, изменяемой и стандартизируемой в таких режимах в целях поддержания функционирования всей, общей системы. Подлинная демократия, напротив, основывается на раскрытии изначальной природы каждого человека и на формировании институциональных возможностей для этого раскрытия каждой личности в обществе.
В итоге в связи с вышеизложенным обнаруживается следующий парадокс. Развитие солипсического «эго» индивида, эгоистического индивидуализма, не стремящегося к пониманию других людей и рассматривающего всех этих людей как функциональные средства для достижения своих целей, приводит вовсе не к свободному обществу независимых людей-личностей, а, напротив, к конструированию интегрирующей всех людей жёсткой системы, не дающей проявиться подлинной природе человека. В такой системе наибольшие как культурные, так и материальные блага достигаются только высшими эшелонами системы, а не всеми гражданами.
Постараемся проиллюстрировать данный парадокс подробнее. Как показал современный учёный Д.А. Давыдов, наиболее развитые государственно-экономические системы фактически становятся сейчас мощными системами производства «эго» людей, направленного на псевдо-творческую активность (Давыдов, 2021). Так, если раньше люди подчёркивали свой социальный статус за счёт обладания материальными благами - автомобилем, роскошной квартирой, личным самолётом и т.д., то в информационных обществах высокий статус человека подчёркивает обладание нематериальными благами. Но если личность, ориентированная не на «эго», а на «Я» и «самость», не конкурирует с другими, а просто развивает себя, то ориентированные пусть даже и на нематериальные блага эгоцентрики стремятся прежде всего стать выше своего конкурента в обществе, получить больше, чем он, и занять более высокий социальный статус. Это может быть и лучшее образование, и публикация в особенно статусных журналах, и получение эксклюзивной информации, и обладание особыми навыками да и просто ведение популярного интер-нет-блога с тысячами подписчиков, но всё это направлено не на саморазвитие, гуманное творчество и благо других людей, ценные сами по себе, а, напротив, - на конкуренцию человека в социальном статусе и в иерархии в системе.
Главная цель такого индивида - повышение именно собственного статуса, и в таких государственных системах - в большинстве развитых капиталистических стран, США и др. - «сегодня фактически тема успеха и славы стала всеобъемлющей» (Давыдов, 2021: 199), и «всеобщая погоня за уникальностью … стала обыденной нормой» (Давыдов, 2021: 202). Люди, стремящиеся к таким ценностям, стараются быть не просто людьми, а уже сверхлюдьми, по выражению Ф. Ницше (Ницше, 2006), не просто личностями, а «суперличностями» (Давыдов, 2021: 201). Общество тем более остаётся конкурентным и состязательным, а, возвращаясь к разделению Э. Фромма «иметь или быть» (Фромм, 2010), люди живут не в модусе «экзистенциального бытия», а в модусе «обладания» – просто они хотят обладать теперь высоким статусом иначе, они желают не быть личностью, а «производить» свою личность как социальное «эго», и теперь «ключевым ресурсом влияния … является популярность как “обладание личностью”» (Давыдов, 2021: 123). Таким образом, люди вновь не взаимно существуют, а конкурируют друг с другом за статус, что приводит к новой системе иерархических отношений, структуре статусов, ещё более хитрой и изощрённой, чем в классическом индустриальном обществе.
Совсем иначе обстоят дела при ориентации на «Я» человека. Подлинное творчество личности, основанное не на «эго», а на «Я», не только обеспечивает «реализацию человеком собственной индивидуальности» (Ильин, 2009: 10), но и направлено на благо других людей, разрешение их проблем. Как было научно, социологически показано П.А. Сорокиным, «созидательное творчество» является «креативной любовью» – «динамической силой, успешно преображающей индивидов, облагораживающей социальные институты, вдохновляющей культуру» (Sorokin, 1950: 10). И настоящее творчество человека не направлено на достижение им более высокого положения в иерархии в системе, а стремится креативно решить сложные проблемы себя и других людей, сделать жизнь лучше1.
Поэтому развитие человека как личности, его «Я» не приводит к образованию новых иерархических и порабощающих систем. Напротив, раскрытие подлинного, природного «Я» человека, развитие личности при помощи взаимопонимания между «Я» и «Ты», «Я» и «Другим», рост солидарности между людьми становятся важной основой для действительно свободного, демократического сообщества людей. Такое демократическое сообщество личностей живёт не по принципам системы и позволяет выйти на свет духовной самости каждого человека. Это демократическое объединение людей стремится достичь не элитарное, а общее благо для всех людей и каждого человека в частности, что было главным критерием правильного политического строя ещё в подходе Аристотеля (Аристотель, 1983: 471).
Мы считаем, что среди разных моделей демократии именно экзистенциальная демократия в наибольшей степени соответствует этому экзистенциально-персоналистскому подходу и основанному на нём демократическому объединению людей, и в полной мере отвечает цели развития каждого человека как независимой, творческой личности в обществе.
Далее в ходе данного научного исследования нами анализируются ключевые теоретические, философские принципы и практические политические, социальные предложения экзистенциальной демократии, чему и будет посвящена вторая часть этой работы.
Список литературы Экзистенциальная демократия как модель демократии для развития человеческой личности. Часть I: понятие экзистенциальной демократии и её научное, философское обоснование
- Абхинавагупта. Парамартхасара («Суть высшей истины»). (Перевод с санскрита, предисловие и примечания С.В. Пахомова) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14, № 1. С. 127–139.
- Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология. М., 2013. 640 с.
- Амирханов А.М. Триада постмодернистской философии: «смерть Бога» – «смерть автора» – «смерть субъекта» // Kant. 2020. № 2 (35). С. 95–99. https://doi.org/10.24923/2222-243X.2020-35.19.
- Аристотель. Политика // Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 376–644.
- Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 384 с.
- Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии. М., 2010. 320 с.
- Бердяев Н.А. Спасение и творчество (два понимания христианства) // Смысл творчества. М., 2011. С. 628–653.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. 269 с.
- Буланже П. Жизнь и учение Будды. Public Domain, 1903. 84 с.
- Вебер М. Понимающая социология. М., 2021. 479 с.
- Винер Н. Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и общество // Человек управляющий. СПб., 2001. С. 3–196.
- Грин Р. Законы человеческой природы. М., 2021. 936 с.
- Давыдов Д.А. Посткапитализм и рождение персоналиата. М., 2021. 336 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007. 672 с.
- Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2009. 434 с.
- Кларк М. Эго и Самость: их определение и различие // Журнал практической психологии и психоанализа. 2013. № 1. С. 1–10.
- Линде Н.Д. Эмоционально-образная (аналитически-действенная) терапия: чувство – образ – анализ – действие. М., 2015. 384 с.
- Линде А.Н. Сравнительный анализ кейсов технократического государственного управления и делиберативно-демократического самоуправления в интернет-сфере // Право и управление. XXI век. 2020. Т. 16, № 1 (54). С. 51–60. https://doi.org/10.24833/2073-8420-2020-1-54-51-60.
- Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. М., 1995. 216 с.
- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. М., 2013. 351 с.
- Михайловский А.В. Почему мы интересуемся причинами? О трансцендентальном истоке основания у Хайдеггера // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2014. № 1 (15). С. 52–65.
- Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. 880 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 2006. 636 с.
- Прокофьев А.В. Утилитаризм // Философская антропология. 2019. Т. 5, № 2. С. 192–215.
- Спиноза Б. Этика. СПб., 2001. 347 с.
- Тёрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. 277 с.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 368 с.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2012. 284 с.
- Фромм Э. Иметь или быть? М., 2010. 314 с.
- Хелд Д. Модели демократии. М., 2014. 544 с.
- Холидей Р. Эго – это враг. М., 2016. 210 с.
- Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., 1997. 672 с.
- Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. 567 с.
- Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 540 с.
- Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. 320 с.
- Buhler Ch. Some Observations on the Psychology of the Third Force // Journal of Humanistic Psychology. 1965. Vol. 5, iss. 1. P. 54–56. https://doi.org/10.1177/002216786500500105.
- Downs A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy // Journal of Political Economy. 1957. Vol. 65, iss. 2. P. 135–150. https://doi.org/10.1086/257897.
- Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Massachusetts, 1996. 631 p. https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001.
- Hendricks V.F., Vestergaard M. Digital Roads to Totalitarianism // Reality Lost. Markets of Attention, Misinformation and Manipulation. Springer, 2019. P. 119–137. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00813-0_7.
- Pralea C. The Existential Democracy and Its Public Intellectual. The Surprising and Unsettling Challenges Arising from Our Inter-Connected Information Society // Messages, Sages and Ages. 2015. Vol. 2, iss. 2. P. 76–85. https://doi.org/10.1515/msas-2015-0014.
- Sorokin P. Altruistic Love: a Study of American «Good Neighbors» and Christian Saints. Boston, 1950. 272 p.