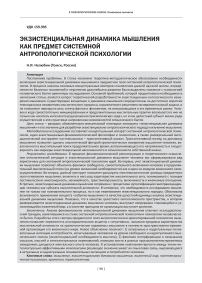Экзистенциальная динамика мышления как предмет системной антропологической психологии
Автор: Нелюбин Н.И.
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Психологические науки. Психология личности
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье изложено теоретико-методологическое обоснование необходимости включения экзистенциальной динамики мышления в предметное поле системной антропологической психологии. В процессе анализа основных концептуальных векторов становления данной научной школы, определения ее базисных положений и перспектив дальнейшего развития были выделены смежные с психологией человеческого бытия ориентиры исследования. Основной проблемой, которой продиктована необходимость написания статьи, является вопрос теоретической разработанности экзистенциально-онтологического измерения мышления. Существующие концепции о динамике мышления сосредоточены на достаточно коротких темпоральных измерениях мыслительного процесса, ограниченного решением экспериментальной задачи, и не позволяют перекрыть весь спектр фактов и феноменов, не вписывающихся в эти временные рамки. Человек в ходе самостоятельно инициированных и продолжительных мыслительных практик вовлекается в них не только как носитель интеллекта ради решения прагматических задач, но и как целостный субъект жизни ради осуществления в этих практиках напряженных возможностей осмысленного бытия. Цель статьи - раскрыть объяснительно-описательный потенциал конструкта «экзистенциальная динамика мышления» и его значение для разработки экзистенциально-антропологического подхода к изучению мышления. Методологию исследования составляют концептуальный аппарат системной антропологической психологии, идеи экзистенциально-феноменологической философии и психологии, а также универсальный методологический инструмент постнеклассики - трансспективный анализ. Трансспективный взгляд на динамику мышления позволяет сделать аналитической фигурой хронотопическое измерение мышления человека, вовлеченного в мыслительный поиск продолжительное время, воспринимающего его напряженность и плодотворность как маркеры экзистенциальной наполненности и осмысленности собственной жизни. Результаты исследования. В процессе феноменологической реконструкции и теоретического осмысления онтологической ситуации и экзистенциальной динамики мышления человека мы сформулировали ряд эвристичных для системной антропологической психологии идей. Во-первых, учет экзистенциальной динамики мышления позволяет объяснять феномен свободного, самостоятельного включения человека в продолжительный мыслительный поиск (на уровне жизненной необходимости) как в один из модусов жизненного самоосуществления. Во-вторых, данный конструкт позволяет расширить эпистемологические границы предметного поля психологии мышления, включить в него ряд характеристик мыслительного акта, понимаемого с позиции постнеклассики: многомерность, нелинейность, транстемпоральность, включенность в жизненные отношения. В-третьих, экзистенциальная динамика мышления сопряжена с процессами аутентификации самотрансценденции человека как субъекта мыслительной активности. В-четвертых, это необходимость исследования мышления не только как познавательного процесса, но и как переживания экзистенциального порядка. Обоснована возможность применения концепта «событие-мышление» в качестве целостной единицы анализа экзистенциальной динамики мышления. Показано, что в качестве целостного онтологического пространства, в котором разворачивается экзистенциальная динамика мышления человека, выступает непрерывно становящийся и усложняющийся жизненный мир, а в качестве принципа ее организации выступает хронотоп.
Мышление, экзистенциальная динамика мышления, жизненный мир, постнеклассическая психология, хронотоп, трансспектива
Короткий адрес: https://sciup.org/144163339
IDR: 144163339 | УДК: 159.995
Текст научной статьи Экзистенциальная динамика мышления как предмет системной антропологической психологии
Нелюбин Николай Иванович – кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии, Омский государственный педагогический университет; доцент кафедры общей и педагогической психологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет; Scopus Author ID: 57216981850; ORCID: ; e-mail:
Р азработка предметного поля системной антропологической психологии ведется по нескольким магистральным направлениям. Каждое из них сосредоточивается на определенном секторе многомерного бытия человека, стремящегося к обретению психологической устойчивости и суверенности в меняющемся мире. Если попытаться выразить в предельно концентрированном виде основной тезис, посредством которого можно очертить предметное поле системной антропологической психологии, то он будет иметь следующий вид: «Человек непрерывно преобразует безликую среду в хронотопически организованное жизненное пространство, принимает решение о выборе той или иной линии жизненного самоосуществле-ния, на которой каждый топос его индивидуального бытия есть место схождения и совмещения разных времен».
На сегодняшний день к числу наиболее разработанных направлений исследования системной антропологической психологии можно отнести:
-
1) изучение свободной инициации мышления как условия обнаружения и разрешения человеком противоречий между образом мира и образом жизни (О.М. Краснорядцева)1;
-
2) исследование психологических закономерностей и механизмов самореализации и инновационного поведения личности (Э.В. Гала-жинский)2;
-
3) изучение хронотопического принципа пространственно-временной организации жизненного мира человека (Некрасова)3;
-
4) постнеклассическая концепция самоидентичности, объясняющая устойчивость человека в условиях нестабильного, быстро меняющегося мира [Лукьянов, 2008];
-
5) выявление системных детерминант стрессоустойчивости и совладающего поведения в возрастном, гендерном и этнопсихологическом контекстах [Бохан, 2008];
-
6) изучение феноменологии различных вариантов жизненного самоосуществления человека в разных средах и условиях жизнедеятельности человека, его пространственно-временных и ценностно-смысловых параметров [Логинова, 2009];
-
7) разработка и операционализация конструкта «индивидуальное когнитивное образовательное пространство», экспериментальное выявление его темпоральных, операциональных, когнитивных и метакогнитивных мерностей [Баланев, Кабрин, Лукьянов и др., 2022].
Отдельное положение в эпистемологическом корпусе САП занимает линия разработки смысловой теории мышления. С точки зрения В.Е. Клочко и его последователей, исследовательская программа О.К. Тихомирова послужила импульсом к возникновению САП [Klochko et al., 2014]. В качестве одного из краеугольных камней выступила идея (получившая широкое экспериментальное подтверждение) о регулирующей функции аффективного отношения (как воплощение идеи Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта), которое опережает гностическое отражение в контексте произвольной мыслительной деятельности, прокладывает дорогу и оформляет «зоны поиска решения задач». Другим открытием научной школы О.К. Тихомирова является определение ценностно-смыслового измерения ситуации решения мыслительной задачи [Тихомиров, 1984], которое феноменологически переживается как наиболее актуальный, динамический и напряженный сектор многомерного жизненного мира человека.
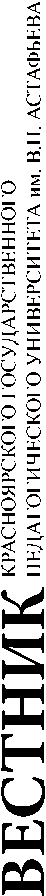
Качественно новый виток своего развития смысловая теория мышления получила в цикле исследований, проведенных О.М. Красноряд-цевой. Они были вынесены за рамки лабораторной экспериментальной среды и сосредоточены на изучении мышления и психологических механизмов его свободной инициации в онтологическом контексте реальной жизнедеятельности человека. В них было установлено, что «главное качество» всех проявлений мышления состоит «в его включенности в конкретный момент бытия человека как один из возможных способов реализации образа жизни»4. В силу открытия этого свойства мышление начинает пониматься как один из модусов бытия человека, на чем в свое время настаивали и С.Л. Рубинштейн, и Л.С. Выготский.
В качестве сквозных методологических оснований в разработке предметного поля САП выступают метод трансспективного анализа, теория психологических систем и концепция об уровнях развития профессионально-психологического мышления, созданные В.Е. Клочко [Клочко, 2005; 2012]. Категория «трансспектива» используется в контексте САП как минимум в трех аспектах: как объяснительный принцип (например, при объяснении феномена синхронизации жизненных событий и переживаний, привязанных к разным пространственно-временным измерениям многомерного жизненного мира человека); как универсальный метод исследования (при выявлении основных тенденций и сквозных методологических сюжетов развития психологического познания); как отдельный предмет исследования (при изучении становления сложных человекоразмерных систем или при выявлении феноменологических маркеров согласования и взаимообусловливания времен бытия человека).
Как было обозначено выше, системная антропологическая психология выросла из смысловой теории мышления [Тихомиров, 1984], которая во второй половине прошлого столетия представляла собой теорию неклассического типа. В ней убедительным образом преодолевалась бинарная логика субъект-объектного взаимодействия и получал экспериментальное подтверждение принцип единства аффекта и интеллекта, ранее сформулированный Л.С. Выготским [Выготский, 2017]. Помимо этого, были изучены и объяснены такие свойства мыслительной деятельности, как избирательность и направленность, определяемые не только устойчивыми мотивационными и когнитивными стратегиями человека, но и операциональными смыслами, которые образуются по ходу решения задач. В этой теории была описана полиморфная феноменологическая ткань мышления (именно так ее и понимал А.Н. Леонтьев [Леонтьев, 2001]) и раскрыта связь между операционально-динамическим и ценностно-смысловым планом мыслительной деятельности, что отвечало положительной эвристике деятельностного подхода. К тому же выявленные О.К. Тихомировым и его учениками отношения между двумя планами мыслительной деятельности существенным образом обогащали «двухрядку» деятельности, описанную А.Н. Леонтьевым. Смысловая теория мышления на момент ее создания являла собой очень продуктивный вариант преодоления разрыва между психологией личности и психологией познания, в ней отчетливо наметился курс на изучение динамики мышления в контексте целостной человекоразмерной психологической системы, выходящей за рамки безликого психологического аппарата.
Экспериментальные исследования, проводимые в научной лаборатории О.К. Тихомирова, находятся в комплементарных отношениях с исследовательскими и теоретическими изысканиями А.В. Брушлинского. Как отмечает Б.И. Беспалов, их результаты убедительным образом раскрывали важнейшее свойство мышления – его недизъюнктивность [Беспалов, 2003]. Первый аспект этого свойства был обозначен в работах М.М. Бахтина, Л.М. Веккера, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. Он определяется его как «единство познавательных и эмоционально-волевых аспектов психического процесса, пронизанность познания чувствами, эмоциями, волевыми тенденциями» [Беспалов, 2003, с. 31]. Второй аспект недизъ-юнктивности связан с онтологической непрерывностью и взаимопроникновением стадий мыслительного процесса, в котором обнаруживаются диффузия и нерасчлененность его компонентов. Третья сторона недизъюнктивности, по мнению автора, заключается в неосознавае-мости способов решения мыслительной задачи и в нелинейном характере мыслительных усилий и действий, что проявляется в феноменах инсайта и интерференции [Беспалов, 2003].
Современный этап развития психологии характеризуется возрастающим интересом исследователей к экзистенциально-феноменологическим основаниям многомерного бытия и жизненного мира человека [Клочко, 2005; Леонтьев, 2019; Субъект…, 2005], стремящегося к плодотворному самоосуществлению и сохранению психологической устойчивости в транзитивном мире, вынужденного конструировать и преобразовывать образ мира в семантически и ценностно нескоординированной информационной среде. В таких условиях существования мышление не может ограничиваться функцией инструмента познавательной ориентировки в изменяющемся мире, оно обретает масштабы особого ментального пространства, в котором необходимо суметь разместиться и удержаться, чтобы начать плодотворно мыслить. На это условие впервые в отечественном философско-психологическом дискурсе обратил внимание П.А. Флоренский, который считал, что «акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный» [Флоренский, 1990, с. 73–74]. Н.А. Бердяев отмечал: «Познание по глубочайшей своей сущности не может быть лишь послушным отражением действительности, приспособлением к данности – оно есть также активное преображение, осмысливание бытия…» [Бердяев, 1916, с. 117]. Или, как замечает М. Хайдеггер, «мысль… допускает бытию захватить себя» [Хайдеггер, 1993, с. 192]. В собственном реальном мышле- нии человек берет ответственность за собственное бытие, считал К. Ясперс [Ясперс, 2013]. Перечень убедительных тезисов, сформулированных выдающимися гуманитарными учеными, может быть продолжен, но если, не вдаваясь в коллекционирование высказываний, обобщить их смысл, то можно обозначить один из принципов экзистенциально-антропологического понимания мышления: «В мышление человек вовлекается не только на уровне ситуативной мыслительной активности, но и на уровне собственной жизненной онтологии».
Пространственно-временные границы, в которых обычно полагается динамика мышления, длительное время ограничивались достаточно узкими рамками. Это пространство-время решения экспериментальных задач, в которое человек включен лишь как носитель интеллекта. В ходе развития психологического познания научные представления о когнитивно-поведенческом плане мышления (как предмете классической психологии) были дополнены данными о ценностно-смысловых и аффективно-мотивационных составляющих мыслительной активности (в рамках неклассической психологии). Научная рефлексия над многомерностью человеческого бытия приводит исследователей к изучению экзистенциально-онтологического пространства мышления, в которое спроецированы значимые переживания, ценности и смыслы как образующие жизненного мира. Новое понимание мышления не ограничивается только интеллектуалистскими представлениями о нем. Так, в работах В.К. Зарецкого, А.Н. Поддьякова и А.С. Пляскиной показано, что при решении моральных дилемм человек руководствуется не только статистическими гипотезами и рациональными доводами, но и мировоззренческим, ценностно-смысловым отношением к предлагаемым альтернативам. В качестве средства смещения аналитического фокуса (с метанравственного на нравственный) при решении дилеммы выступает инициативная саморефлексия, инициируемая самим человеком без побуждения со стороны экспериментатора [Зарецкий, 2014; Поддъяков, Пляскина 2018]. Современные зарубежные исследователи тоже
обратили внимание на феномен сопряженности критического с нравственными императивами и ценностями экзистенциального порядка как условие защищенности человека от «темной стороны» мыслительной практики, приводящей к экзистенциальному отчуждению и саморазрушению [Rönnström, 2024].
Если мы берем во внимание сформулированный выше принцип и рассматриваем мышление как акт экзистенциального порядка (на чем настаивают и современные зарубежные исследователи [Allan, Shearer, 2012]), то требуется иное видение мыслительной динамики. Оно должно охватывать пространственно-временное, или хронотопическое, измерение мышления человека, занятого мыслительным поиском длительное время на уровне надситуативного и апрактичного отношения к нему [Петровский, 2010], когда напряженное мыслительное усилие переживается как одна из характеристик качества и плодотворности собственной жизни (как «необходимость себя», если обратиться к идеям М.К. Мамардашвили [Мамардашвили, 2000]). Человек мыслит в контексте собственной онтологической ситуации, осуществляя в мышлении напряженные возможности осмысленного бытия. В собственных мыслительных практиках он не только приспосабливается к возрастающей сложности мира, но сам может «активно строить, создавать его сложность». Как подчеркивает А.Н. Поддьяков, «это усложнение может быть встречным – навстречу усложнению мира, – а может быть и инициативным. Такая сложностно-созидающая активность (введем это понятие) выходит за рамки реагирования на сложность» [Поддъяков 2022, с. 35].
Что же предопределяет и стимулирует необходимость включения конструкта «экзистенциальная динамика мышления» в предметное поле системной антропологической психологии? Во-первых, это необходимость понимания мышления человека в более широком жизненном и темпоральном контексте, что вызывает интерес к исследованию естественных (за рамками эксперимента) и продолжительных мыслительных практик, инициированных самим человеком
(например, работа над оформлением научной концепции или художественного произведения). Автобиографии и мемуары выдающихся представителей науки и искусства содержат множество свидетельств такого продолжительного мыслительного поиска.
Во-вторых, это стремление исследователей к преодолению разрыва между проблемным и предметным полем психологии мышления, который был зафиксирован В.Е. Клочко [Клочко, 2008]. Существующие эпистемологические границы предметного поля психологии мышления не вмещают в себя целый ряд характеристик мышления, понимаемого с позиции постнеклас-сики: многомерность, нелинейность, транстем-поральность, включенность в жизненные отношения. Хотя эти характеристики уже начали получать содержательное раскрытие [Нелюбин, 2024], предстоит работа по их операционализа-ции, сбору релевантных им феноменологических и экспериментальных данных.
В-третьих, требует своего объяснения феномен вовлеченности человека в мышление на уровне экзистенциальной необходимости, когда мыслительная практика становится одновременно практикой реализации заботы о себе (П. Адо, В.В. Бибихин, М.К. Мамардашвили, М. Фуко). С одной стороны, человек в собственных мыслительных практиках аутентифицирует себя как того же самого субъекта мыслительной активности с присущими ему индивидуальными стратегиями мышления, способами инициации мыслительной активности, приемами пробле-матизации ее предмета. С другой – он постоянно доопределяется в собственных мыслительных практиках, преодолевает инерцию сложившегося ментального опыта.
В-четвертых, это необходимость исследования мышления не только как процесса, но и как переживания. Так, А.А. Ухтомский подчеркивал, что «при всей абстрактности по своей природе мысль есть ведь тоже живое переживание» [Ухтомский, 1996, с. 302]. Мышление и чувства взаимообогащаются и пронизывают друг друга [Voznyak, Voznyak, 2024]. Дальнейшей концептуальной и экспериментальной разработки ждет вопрос о функциональной роли интеллектуальных чувств (в том числе чувств экзистенциального порядка: страсть мыслить, чувство осмысленности, экзистенциальной вовлеченности в мыслительный поиск, познавательной интриги), которые репрезентируют значимость предмета мышления, являются индикатором его важности для человека в ходе мыслительного поиска [Лэнгле, 2015], способствуют очерчиванию зоны поиска решения, выступают в качестве метаког-нитивных ориентировок в ситуации мышления и ресурсов антиципации возможных способов решения [Тихомиров, 1984]. Решение этой исследовательской задачи требует построения специального описательного языка, не стесненного строгими терминологическими рамками. Этим объясняется привлечение в научно-психологический дискурс о мышлении литературных сравнений и поэтических метафор, которые оказываются вполне валидными средствами описания феноменологии живого мыслительного акта, ускользающей от строгих терминологических конструкций.
Экзистенциально-антропологический ракурс понимания мышления, убедительно представленный в философско-психологическом дискурсе, позволяет брать во внимание важное свойство мыслительного акта. Это его включенность в топологию индивидуального бытия человека. По замечанию А.М. Пятигорского, антропология (если рассматривать ее под экзистенциально-феноменологическим углом) представляет собой «новый комплекс представлений о себе как носителе мышления» [Пятигорский, 2004]. Человек всегда мыслит (если мы имеем в виду ситуацию свободного мышления), находясь как бы в плену собственной онтологической ситуации. Мышление разыгрывается, как это подметил М.К. Мамардашвили, «в теле драматической судьбы личности» [Мамардашвили, 2000, с. 71]. Каждый действительно продуктивный, инициированный самостоятельно мыслительный акт и каждое событие мысли целостно понимаемого человека становится значимым событием индивидуальной истории его мыследеятельных отношений с собой и миром.
Отделить значимые события мышления от других личностно значимых и узловых событий жизни невозможно. В противном случае это привело бы к расщеплению целостного жизненного мира человека на два изолированных друг от друга измерения. Совершая напряженный и плодотворный мыслительный поиск, человек стремится к тому, чтобы в мыслимом и в способе мышления сказывалось его бытие. Это положение справедливо как для множества случаев транспонирования бытия поэта в его поэтическое мышление, так и для случаев обнаружения бытия ученого в способах конструирования и содержании личностного знания (которое в неявном виде присутствует в его теоретических построениях [Полани, 1985]). Мыслить в экзистенциальном смысле слова – значит мыслить «в полноте своего существа» [Мамардашвили, 2000, с. 328] и давать своей экзистенции сказаться в мысли.
В качестве целостного онтологического пространства, в котором разворачивается экзистенциальная динамика мышления человека, необходимо рассматривать непрерывно становящийся и усложняющийся жизненный мир – то аффективно-смысловое поле жизненных событий (со всей историей его становления), в контексте которого разыгрываются достаточно драматичная и напряженная проблематизация и мыслительный поиск. М.К. Мамардашвили определял главное экзистенциальное условие мышления через тезис: чтобы мыслить, надо уже быть в мышлении [Мамардашвили, 2000]. Это значит, что в пространстве-времени мышления необходимо разместиться как в особом онтологическом пространстве жизни, нужно сбываться в собственном мышлении, относиться к нему как к особому «бытийно-личностному эксперименту», и только тогда мышление станет действительно живым жизненным актом, имеющим экзистенциальную ценность [Мамардашвили, 2000].
Жизненный мир, как было сказано выше, выступает в качестве целостного бытийно-познавательного контекста, в границах которого идут проблематизация, разновекторное смысло-
образование и мыслительный поиск. В силу этого в предметно-тематические, стилевые аспекты мышления человека транспонированы его жизненные отношения. Его общая экзистенциальная настроенность в той или иной мере сказывается на характере мыслительной деятельности, на мере ее продуктивности и надситуативности. То, какой характер обретет мыслительный поиск: инструментальной вы-числительности, прагматичной сметливости или же осмысляющего раздумья [Хайдеггер, 1993], – зависит от готовности человека обнаружить в ситуации мышления напряженные возможности для экзистирования.
Напряженное состояние мышления сопровождается эффектами сгущения мысли и «уплотнения» пространства-времени существования мыслящего человека. Этот эффект хорошо знаком ученым и литераторам, напряженно и длительно работающим над оформлением замысла оригинальной научной концепции или нетривиального литературного сюжета. Долгожданная мысль, разрешающая занимавший их вопрос, возникает в топосе пересечения нескольких уровней смыслообразования одновременно: операциональном, аффективном, мотивационном, семантическом. Вследствие этого мысль обретает необходимую феноменологическую полноту. В темпоральном плане этот эффект можно представить как своеобразный контрапункт, в котором сходятся различные временные измерения мышления: от уже осуществленных актов мыслительной активности и их смысловых следов (хранящихся в памяти) до проспективно-интуитивных «набросков» мысли. Феноменология длительного мыслительного поиска характеризуется эффектом обогащения мысли новыми идеаторными содержаниями – еще не отрефлексированными и вербально не оформленными, но уже вплетенными в смысловую ткань мышления, в его предсознательную динамику.
Разные пространственно-временные контексты мышления (осуществленного, осуществляемого, возможного) накладываются, создавая особое, совмещенное пространство длящейся мысли. Опыт «держания мысли» (метафора М.К. Мамардашвили), хорошо знакомый субъектам творческого поиска, переживается как особое усилие, которое направлено на возобновление и развитие мысли. В пространстве-времени длящегося мышления происходит своего рода смысловое обогащение мысли в каждом новом витке ее актуализации. В этом многомерном пространственно-временном измерении, организованном по хроното-пическому принципу, субъект мышления – это тот, кто помнит, длит и одновременно полагает мысль. Отсюда следует, что мысль – это не одномоментное образование, она имеет временную протяженность (на что обращал внимание М.К. Мамардашвили), получает развитие в русле продолжающегося мыслительного поиска, иногда охватывающего значительные временные периоды. Философ и психофизиолог с мировой известностью А.А. Ухтомский в своих дневниках сделал следующее замечание: «Я мучаюсь именно тем, что моя жизнь, и именно даже умственная жизнь, представляется для меня более биографическим, чем логически-систематиче-ским» [Ухтомский, 1997, с. 64]. Классик мировой литературы Л.Н. Толстой описывал особую потребность обобщения авторских идей и концепций: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя»5. А. Матисс выразил опыт дления художественного вдохновения в следующих строках: «Я думаю, однако, что можно судить о жизненности и силе художника, когда, получая непосредственные впечатления от природы, он бывает способен организовать свои ощущения и даже возвращаться многократно и в различные дни к тому же самому состоянию духа и продлевать свои переживания» [Цит. по: Кузин, 2005, с. 245].
Этот событийно-биографический срез мышления переживался цитируемыми авторами на уровне значимого измерения собственного исторического бытия. На этот феномен прис- тальное внимание обратил Дж. Брунер в своей программной работе «Жизнь как нарратив», обосновав существование формы мышления, выходящей за рамки «конструирования логических или индуктивных аргументов» [Брунер, 2005]. В качестве такой формы он предложил нарративное мышление, которое проявляется в конструировании и концептуализации биографических рассказов и описаний. Учитывая приведенные аргументы, можно заключить, что умственная жизнь человека – это отнюдь не совокупность отдельных эпизодов мышления, изолированных друг от друга во времени и отделенных от событийно-смыслового плана жизненного пути субъекта мышления. Скорее ее можно представить как длящуюся историю мышления конкретного человека, или, если выразиться в духе А.А. Ухтомского, как череду хронотопов – «неизгладимых из бытия» (метафора А.А. Ухтомского) событий мышления.
Мы не случайно так часто употребляем в данной работе понятие «событие». Это именно то понятие, которое занимало М. Хайдегера в поздний период его философствования [Хайдеггер, 1993]. Его использование в дискурсе о мышлении позволяет преодолеть разрыв между тем, кто мыслит (субъект мышления), тем, что мыслится (предмет мысли), и тем, к чему взывает мышление (к возможностям укоренения в бытии, открывающимся в мышлении). В этом плане событийность мышления является одним из ключевых феноменов, который должен быть поставлен в центр экзистенциально-антропологического дискурса о мыслительных практиках человека. С.А. Смирнов считает, что концепт «событийность» является «онтологическим репером для антропологии и антропологическим маркером для онтологии» [Смирнов, 2016, с. 109]. Он выступает в качестве связующего звена между сферами онтологии и антропологии [Там же]. Таким образом, концепт «событие-мышление» может выступать в качестве целостной единицы анализа экзистенциальной динамики мышления. Момент участного, напряженного, надситуативного включения человека в мыслительный поиск переживается в онтологическом плане как событие мышления, которое становится местом сосредоточения самостоятельно инициированных и плодотворных мыслительных актов, имеющих особую экзистенциальную значимость и жизненный смысл.
Если воспользоваться метафорическим сравнением, то мышление в его экзистенциально-хронотопическом срезе можно представить как длящийся интеллектуальный роман с развивающимися сюжетом и главным героем (индивидуальным субъектом истории собственного мышления), погруженным в силовое поле значимых мыслительных событий и познавательных противоречий. Он непрерывно оформляет предметнотематическое поле значимых проблем мышления, конституирует себя как мыслящего человека, доопределяется в собственных мыслительных практиках, осмысляет трансспективу собственной когитальной индивидуации.
При рассмотрении пространственно-временной развертки ментального опыта человека под углом его когитальной индивидуации можно обнаружить следующую тенденцию: все события мышления стремятся к «транстемпоральному консонансу» (метафора О.В. Лукьянова). Другими словами, они встречаются в особом смысловом контрапункте, в месте порождения качественно новых мерностей жизненного мира человека. Отсюда в его актуальных познавательных интенциях наличествует в качестве особого метапредмета смысловой абрис усложняющегося жизненного мира, представлена в свернутом виде персональная антология всех значимых событий мышления. «Узнавать подлинный смысл настоящего, – по замечанию А.А. Ухтомского, – значит уже знать его будущее» [Ухтомский, 2002, с. 434]. Эта идея А.А. Ухтомского очень созвучна в концептуальном плане с одним из центральных положений САП: «Все тем-поральности человеческой жизни имеют свою специфику, но решающее значение принадлежит их одновременности, согласованности. Потому что целый (аутентичный) человек живет не во времени, а в полноте времен» [Клочко и др., 2015, с. 16]. Это положение справедливо и для хронотопической организации ментального
опыта человека, поскольку в экзистенциально-антропологической традиции мышление и жизнь – это две стороны одной медали [Хайдеггер, 1993; Мамардашвили, 2000; Пятигорский, 2004; Бибихин, 1998]. Мыслит он тоже в полноте времен, отсюда и возникает феномен длящегося мышления. Человек как субъект ко-гитальной индивидуации в своем становлении выступает в качестве медиума между персонифицированными, предельно напряженными событиями мышления, приуроченными к разным пространственно-временным измерениям длящегося ментального опыта.
Понятие «хронотоп» при описании экзистенциальной динамики мышления мы используем здесь тоже не случайно. Мы не только живем в хронотопе (в чем был убежден А.А. Ухтомский [Ухтомский, 2002]), но и мыслим в нем. А.А. Ухтомским этот описательный конструкт был привнесен в философско-психологический дискурс с целью преодоления тех ограничений, которые несли в себе классические понятия «времени» и «пространства». «Хронотоп» позволял описывать живые интегральные события (или «интегралы опыта»), в которых воедино «связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них – с событиями исчезающего вдали будущего» [Ухтомский, 2002, с. 343]. Таким образом, хронотоп выступает в качестве целостной онтологической единицы жизни человека. В нем воплощается событийно-смысловая связь темпоральных срезов бытия человека. С позиции трансспективного взгляда на мышление – это живые интегральные события становления ментального пространства человека, наиболее напряженные и плодотворные моменты осуществления человеком своих познавательных интенций, или, как бы выразился М.К. Мамардашвили, моменты, в которых человек был «поставлен на карту» в собственных мыслительных практиках [Мамардашвили, 2000]. С точки зрения М.М. Бахтина, хронотоп как главный принцип организации литературного сюжета представляет собой многомерное событийное пространство, в котором обнаруживает себя
«действительная архитектоника переживаемого мира жизни» [Бахтин, 2003, с. 528]. Если вооружиться изложенными выше идеями, можно заключить, что целостной единицей анализа ментального пространства человека (в контексте его становления) является хронотоп – пространственно-временной контрапункт, в котором встречаются, взаимодополняются условно завершившиеся, актуальные и возможные события мышления.
Такой взгляд на пространственно-временную организацию мышления человека вполне соответствует принятому в современной постнеклассической психологии представлению о взаимодействии временных измерений в «са-моразвивающихся “человекоразмерных” системах», где «будущее в своей неразвернутой форме представлено в настоящем, а прошлое в своем преобразованном виде включено в будущее и подчинено ему» [Клочко, 2012, с. 42]. Сдвиг исследовательских акцентов от ситуативных, локально-средовых характеристик «к хронотопическим характеристикам человека, к пространственно-временной организации его жизненного пространства» [Клочко, 2007, с. 163] отвечает исследовательским трендам, наметившимся в антропологически ориентированной психологии мышления. Если хронотоп целостно понятого, конкретного человека в контексте его жизненного пути – «это текст жизни, вплетенный в эпоху (исторически, т.е. временно) и “место-пространство”, где эта жизнь протекает» [Логинова, 2009, с. 99], то и мышление, как антропологическую практику самоконституирования (поскольку человек постоянно доопределяется, достраивается в актах мышления [Мамардашвили, 2000]), необходимо рассматривать с этих же позиций.
Таким образом, реализация трансспективно-го взгляда при изучении экзистенциальной динамики мышления требует перехода от анализа предметно-ситуативного плана мышления (который чаще всего учитывается в лабораторном эксперименте) к описанию пространственновременной организации мышления, или, другими словами, к описанию хронотопа, в котором сходятся воедино и аккумулируются ключевые события ментального и жизненного пространства человека. Хронотоп как целостная единица анализа экзистенциальной динамики мышления является еще и своеобразным «местом встречи», пространственно-временным контрапунктом ментального пространства человека и его жизненного пространства. Выступая в качестве событийно нагруженного, совмещенного пространства бытия человека, он обусловливает экзистенциальную динамику мышления, является фундаментальным онтологическим принципом ее развития. В подвижных феноменологических границах хронотопа происходит «сгущение» и наложение пространственно-временных сюжетно-тематических и аффективно-смысловых измерений мышления. Плодотворность и конституирующая сила мышления здесь проявляются во взаимной обращенности, проницаемости ментального и жизненного пространства: «…мир мысли и стихия чувств, действия и поступки и все, что вовлекается в орбиту существования, соединены и сплавлены воедино, в интеллектуальное и экзистенциальное целое» [Хоружий, 2010, с. 245]. Свойства проницаемости и подвижности феноменологических границ хронотопа получили точное метафорическое выражение в поэтических строках Б.Л. Пастернака: Перегородок тонкоребрость / Пройду насквозь, пройду, как свет / Пройду, как образ входит в образ / И как предмет сечет предмет6. Взаимная обратимость ментального и жизненного пространства – феномен хорошо знакомый и мыслителям, и художникам, и поэтам. Многим из них известно на уровне самодостоверного, личностного знания, что значит жить искусством, творчеством, мыслительным поиском.
События мышления, взятые в контексте его экзистенциальной динамики, носят долгоиграющий, транстемпоральный характер (в противовес дискретным эпизодам рассудочной деятельности) и феноменологически переживаются как «длящееся мышление» (выражение М.К. Мамардашвили). На это в свое время обратил вни- мание Ж. Пиаже: «...когнитивные формы зависят не только от существующего в данный момент “поля”, но также от всей предшествующей истории действующего субъекта» [Пиаже, 2003, с. 8]. Данное высказывание косвенно указывает на транстемпоральную природу ментального поля. Человек располагает теми объяснительными конструктами и ментальными схемами, которые складывались и формировались в пространстве-времени его мышления, референтном пространству-времени его индивидуальной жизни.
Топология индивидуально-исторической жизни и топология мышления человека син-хронируют и периодически сходятся в едином хронотопе, переживаемом как предельно напряженный и смыслонесущий момент жизни. Событийно-смысловая насыщенность жизни неравномерно распределена и уравновешена во времени (в истории индивидуального бытия). Этим обстоятельством можно объяснить моменты интеллектуального застоя и феномены пиковых переживаний, когда на протяжении длительного времени человеку не удается инициировать плодотворный мыслительный поиск или же, наоборот, когда под вспышкой мгновенного озарения удается совершить существенный «но-этический скачок», решить сложную задачу, найти точный ответ на, казалось бы, неразрешимый вопрос. Дело здесь не столько в инсайтном характере решения сложных мыслительных задач и в предсознательной фазе поиска альтернатив, на что указывали гештальтпсихологи [Дункер, 1965; Szekely, 1940]. С позиции постнекслассики может быть найдено иное, более убедительное объяснения. Для решения сложной задачи, занимающей человека достаточно длительное время, должен быть построен новый функциональный орган мышления. Но он не может быть образован на фоне стабильного, адаптивного режима функционирования психики. Подтверждение убедительности этого объяснения можно найти в работах А.А. Ухтомского и В.П. Зинченко [Ухтомский, 2002; Зинченко, 2000]. Состояние познавательного усилия, с точки зрения А.А. Ухтомского, носит неравновесный характер: «…все поле нашего сознания и знания есть постоянное
колебание равновесия» [Ухтомский, 1997, с. 78]. Мышление, равно как и любой жизненный акт, сопровождается постоянным колебанием «на острие меча» (метафора А.А. Ухтомского), удерживаясь в равновесии лишь при условии постоянной динамики. Выход за пределы равновесного состояния является необходимым условием самотрансценденции субъекта мышления, сборки нового функционального органа. В.П. Зинченко усматривал в неравновесных состояниях ключ к пониманию принципа порождения функционального органа: «Поэтому-то асимметрия, дисгармония, неравновесные состояния приводят не к вожделенному многими поколениями физиологов и психологов равновесию, гомеостазу, единству, гармонии, покою и т.п., а к возникновению все новых и новых состояний, к порождению функциональных органов – новообразований» [Зинченко, 2000].
А.А. Ухтомский считал, что отдаленные друг от друга в пространстве-времени, но резонирующие между собой смыслы и познавательные впечатления образуют пробные конфигурации, из которых, в свою очередь, строятся «проекты новой действительности» [Ухтомский, 2002, с. 295]. Из данного рассуждения следует, что конституирование набросков новых, оригинальных концепций разворачивается по принципу со-настраивания и связывания смыслов и интеллектуальных переживаний, имевших место в разных пространственно-временных измерениях длящегося опыта мышления человека. Это связывание подчинено хронотопическому принципу. В установлении комплементарности между этими интеллектуально-аффективными комплексами, возникающими в разных темпоральных измерениях ментального опыта человека, решающее значение имеет их смысловая связь, выражающаяся в актуальных и надактуальных познавательных интенциях и потребностях человека.
Таким образом, можно с достаточной уверенностью говорить, что ментальный опыт человека не дискретен, он обладает свойством преемственности, но не по принципу пространственно-временной смежности, а по принципу отсроченного смыслового резонанса. Мысль, однажды мелькнувшая на горизонте познавательных возможностей человека, но не в полной мере оформленная им, может вновь актуализироваться (даже спустя годы) и оформиться в завершенный концепт. Этим объясняется феномен отсроченного разрешения долгоиграющих вопросов и противоречий, занимавших человека (вовлеченного в мыслительный поиск на уровне экзистенциальной необходимости) на протяжении длительного времени, составляющих основной «нерв» его познавательных усилий, мыслей, интеллектуальных и экзистенциальных переживаний, образующих единую феноменологическую ткань ментального опыта. Со временем будто бы отыскивается нужный угол зрения или происходит оптимальная перегруппировка мыслей, их смысловых и знаково-символических референтов, а обманчивое и нестабильное чувство преднаходимости решения перерастает в долгожданное восклицание «Эврика!». Но все это становится возможным, если внимание человека продолжительное время удерживается в русле устойчивых интенций мышления, которые образуют длительно неугасаемую доминанту его смыслообразующей активности.
«Автор декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи».
Список литературы Экзистенциальная динамика мышления как предмет системной антропологической психологии
- Баланев Д.Ю., Кабрин В.И., Лукьянов О.В., Краснорядцева О.М., Щеглова Э.А., Бредун Е.В. Когнитивное индивидуальное образовательное пространство: технологии изучения и построения стратегий конструирования / отв. ред. О.М. Краснорядцева. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2022. 234 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=68523750 (дата обращения: 12.11.2024).
- Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, 2003. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. 958 с. URL: https://djvu.online/file/gD2zeZOqaMBfo (дата обращения: 12.11.2024).
- Беспалов Б.И. Взаимоотношения понятий «операциональный смысл» и «недизъюнктивность мышления» в концепциях О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского // Творческое наследие А.В. Брушлинского и О.К. Тихомирова и современая психология мышления (К 70-летию со дня рождения): тез. докл. науч. конф. / отв. ред. В.В. Знаков, Т.В. Корнилова. М.: Ин-т психологии РАН, 2003. С. 31–33. URL: https://istina.ips.ac.ru/collections/8000935/ (дата обращения: 12.11.2024).
- Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916. 358 с. URL: http://www.golden-ship.ru/_ld/10/1021_111.htm (дата обращения: 12.11.2024).
- Бибихин В.В. Узнай себя. СПб.: Наука, 1998. 577 с. URL: http://bibikhin.ru/uznay_sebya (дата обращения: 12.11.2024).
- Бохан Т.Г. Проблема стресса в психологии: трансспективный анализ: монография. Томск, 2008. 156 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?edn=rzafex (дата обращения: 12.11.2024).
- Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология. 2005. № 1 (2). С. 9–29.
- Выготский Л.С. Записные книжки. Избранное / под общ. ред. Е. Завершневой, Р. ван дер Веера. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2017. 608 с. URL: https://djvu.online/file/qxfHjw6mF9kAB (дата обращения: 12.11.2024).
- Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. С. 86–234. URL: https://practicalthinking.narod.ru/psy_of_thinking_matushkin.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Зарецкий В.К. Социальное познание и ментальность в зеркале процесса решения творческой задачи // Консультативная психология и психотерапия. 2014. № 4 (22). С. 207–222. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22702103_10154855.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Зинченко В.П. Алексей Алексеевич Ухтомский и психология (к 125-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. 2000. № 4. С. 79–97.
- Клочко В.Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 157–164. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12225199_83653390.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в трансспективный анализ). Томск: Том. гос. ун-т, 2005. 174 с. URL: https://elibrary.ru/QXPEUV (дата обращения: 12.11.2024).
- Клочко В.Е., Галажинский Э.В., Краснорядцева О.М., Лукьянов О.В. Системная антропологическая психология: понятийный аппарат // Сибирский психологический журнал. 2015. № 56. С. 9–20. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23651476_61716439.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Клочко В.Е. Смысловая теория мышления в трансспективе становления психологического познания: эпистемологический анализ // Вестник Московского университета. 2008. Сер. 14: Психология. № 2. С. 87–101. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_15103974_82895333.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Клочко В.Е. Уровни сложности психологического мышления и современная когнитивистика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 4 (20), вып. 1. С. 37–43. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18782485_80481088.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Кузин В.С. Психология живописи. М.: ОНИКС, 2005. 304 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20081595 (дата обращения: 12.11.2024).
- Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2001. 511 с. URL: https://sdo.mgaps.ru/books/K7/M1/file/2.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Леонтьев Д.А. Человек и жизненный мир: от онтологии к феноменологии // Культурно-историческая психология. 2019. Т. 15, № 1. С. 25–34. DOI: 10.17759/chp.2019150103
- Логинова И.О. Хронотопические характеристики жизненного самоосуществления человека // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7 (2). С. 98–103. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_13520373_10160348.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Лукьянов О.В. Проблема становления идентичности в эпоху социальных изменений: монография. Томск, 2008. 212 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21147174 (дата обращения: 12.11.2024).
- Лэнгле А. Экзистенциально-аналитическое понимание эмоциональности: теория и практика // Национальный психологический журнал. 2015. № 1 (17). С. 26–38. DOI: 10.11621/npj.2015.0104
- Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000. 416 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23899936 (дата обращения: 12.11.2024).
- Нелюбин Н.И. Системно-антропологические характеристики мышления // СибСкрипт. 2024. Т. 26, № 5 (105). С. 727–738. DOI: 10.21603/sibscript-2024-26-5-727-738
- Петровский В.А. Человек над ситуацией: монография. М.: Смысл, 2010. 559 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20109903 (дата обращения: 12.11.2024).
- Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2003. 192 с. URL: https://pedlib.ru/Books/6/0031/6-0031-1.shtml (дата обращения: 12.11.2024).
- Поддьяков А.Н. Создание проблем и задач как инициативное усложнение мира // Образовательная политика. 2022. № 2 (90). С. 35–40. DOI: 10.22394/2078–838Х-2022–2-35-40
- Поддьяков А.Н., Пляскина А.С. Инициативная саморефлексия при решении моральной дилеммы (на материале задачи «Азиатская болезнь») // Мир психологии. 2018. № 3 (95). С. 96–104. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36487438_18838174.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. 344 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22468529 (дата обращения: 12.11.2024).
- Пятигорский А.М. Непрекращаемый разговор. СПб.: Азбука-Классика, 2004. 432 с. URL: https://studylib.ru/doc/2084256/neprekrashhaemyj-razgovor (дата обращения: 12.11.2024).
- Смирнов С.А. Событийность мысли (к вопросу об онтологии событийности) // Вопросы философии. 2016 № 8. С. 103–114. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26486149_91695382.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Субъект, личность и психология человеческого бытия / под ред. В.В. Знакова и З.И. Рябикиной. М.: Изд-во Ин-та психологии Рос. акад. наук, 2005. С. 9–44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20080134 (дата обращения: 12.11.2024).
- Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: МГУ, 1984. 272 с. URL: https://cmcmsu.info/download/tikhomirov.psychology.of.thinking.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
- Ухтомский А.А. Доминанта. Статьи разных лет. СПб.: Питер, 2002. 448 с. URL: https://textarchive.ru/c-1505039-pall.html (дата обращения: 12.11.2024).
- Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997. 576 с.
- Ухтомский А.А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петербургский писатель, 1996. 528 с.
- Флоренский П.А. Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 1: Столп и утверждение истины (I). 490 с. URL: https://djvu.online/file/WUaBISQmNlL0H (дата обращения: 12.11.2024).
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 192–220. URL: https://djvu.online/file/SSZNlPj9EhF9a (дата обращения: 12.11.2024).
- Хоружий С.С. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии. М.: Инс-титут философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 688 с. URL: https://litmir.club/br/?b=283125 (дата обращения: 12.11.2024).
- Ясперс К. Разум и экзистенция / пер. А.К. Судакова. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2013. 336 с. URL: https://djvu.online/file/QgXL4unA06vQY (дата обращения: 12.11.2024).
- Allan, B.A., & Shearer, B. (2012). The scale for existential thinking. International Journal of Studies, 31 (1), 21–37. DOI: 10.24972/ijts.2012.31.1.21
- Klochko, V.E., Galajinsky, E.V., Krasnoryadtseva, O.M., & Lukyanov, O.V. (2014). Мodern psychology: system anthropological approach. European Journal of Psychological Studies, 4 (4), 142–155. DOI: 10.13187/ejps.2014.4.142
- Rönnström, N. (2024). The dark side of critical thinking and the need to restore learning relationships. ACCESS: Contemporary Issues in Education, 44, 71–83. DOI: 10.46786/ac24.8788
- Szekely, L. (1940). Studien zur Psychologie des Denkens: Zur Topologie des Einfalls. Acta Psychologica, 5 (1), 79–96.
- Voznyak, S.V., & Voznyak, V.S. (2024). The anthropological content of thinking: the place of thinking among the essential forces of man according to Hegel. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 25, 133–144. DOI: 10.15802/ampr.v0i25.307673