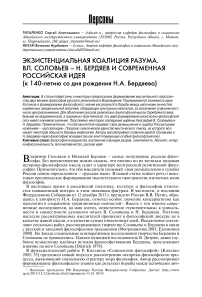Экзистенциальная коалиция разума. Вл. Соловьев - Н. Бердяев и современная российская идея (к 140-летию со дня рождения Н.А. Бердяева)
Автор: Титаренко Сергей Анатольевич, Нехай Вячеслав Нурбиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Персоны
Статья в выпуске: 12, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье пойдет речь о некоторых предпосылках формирования мыслительного пространства двух великих философов русского религиозного Возрождения. Подчеркивается значимость идеи Коллинза о формировании философского знания как результата борьбы между цепочками личностей, заряженных эмоциональной энергией, обладающих культурным капиталом, за заполнение ограниченного числа центров внимания. Для объяснения русской религиозно-философской мысли Серебряного века, бывшей не академической, а социально-практической, эта идея формирования религиозно-философской сети имеет ключевое значение. Прослежено некоторое совпадение идейных биографий В. Соловьева и Н. Бердяева. Примечательно, что оба мыслителя называют свои размышления о судьбах России одним названием - «русская идея». Показано сизигическое единство мистического поиска, из которого возникает некоторая общность базовых мифологем. Авторы рассматривают созвучие идей В. Соловьева и Н. Бердяева через философию всеединства как конституирующих особый философский узел.
Философия всеединства, внутренние коалиции разума, сизигийность, абсолют, интерконфессиональность, богочеловечество, русская идея
Короткий адрес: https://sciup.org/170167298
IDR: 170167298
Текст научной статьи Экзистенциальная коалиция разума. Вл. Соловьев - Н. Бердяев и современная российская идея (к 140-летию со дня рождения Н.А. Бердяева)
В ладимир Соловьев и Николай Бердяев – самые популярные русские философы. Без преувеличения можно сказать, что именно по их взглядам западная историко-философская мысль судит о характере всей русской религиозной философии. Примечательно, что оба мыслителя называют свои размышления о судьбах России одним определением – «русская идея». В нашей статье пойдет речь о некоторых предпосылках формирования мыслительного пространства изучаемых нами философов.
В настоящее время в российской политике, культуре и философии отмечается повышенный интерес к этим знаковым фигурам. В частности, в послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. президент России В.В. Путин, обращаясь к авторитету Н.А. Бердяева, отмечал особое значение консерватизма как идеологии в сохранении традиционных ценностей 1 . Вместе с тем многие современные исследователи, на наш взгляд, недостаточно «чувствительны» к уникальности и совместности духовного опыта В. Соловьева и Н. Бердяева. Поэтому наследие рассматриваемых мыслителей проникает в философский дискурс не в качестве живой мысли, а в качестве суммы отвлеченных идей. Исключение составляют несколько работ, рассматривающих творчество Соловьева и Бердяева в связи с русской и западной философскими традициями [Мотрошилова 2003; Евлампиев 2000]. На Западе специальные компаративные исследования творчества Бердяева и Соловьева не проводились. Однако немецкий исследователь В. Дитрих, давая глубокое осмысление идейных истоков философствования Бердяева, прослеживает влияние на него Соловьева [Dietrich 1979].
В фундаментальной работе Р. Коллинза «Социология философий» [Коллинз 2002: 53] предложен новый подход к рассмотрению историко-философского процесса, выявляющий социальную структуру мира философов. Автор рассматривает формирование философского знания как результат борьбы между цепочками лич- ностей, заряженных эмоциональной энергией и обладающих культурным капиталом, за заполнение ограниченного числа центров внимания. Для объяснения русской религиозно-философской мысли Серебряного века, бывшей не академической, а социально-практической, эта идея имеет ключевое значение. В монографии отмечено наличие религиозно-философской сети, сгруппировавшейся вокруг Н. Бердяева. Однако истоком особой русской религиозно-философской цепочки Серебряного века был все-таки В. Соловьев. Интеллектуальные группы и линии соперничества между современниками, по мысли Коллинза, создают то структурное поле сил, в котором и происходит интеллектуальная деятельность: «группа присутствует в сознании индивида, даже когда он один: для индивидов, являющихся творцами исторически значимых идей, именно это интеллектуальное сообщество является первостепенным» [Коллинз 2002: 53]. Коллинз строит свои объяснения на радикальном тезисе: «Индивиды суть узлы сетей социального взаимодействия – человеческие тела, где накапливаются эмоциональные энергии, а потоки идей-символов кристаллизуются в виде воображаемых коалиций в разуме» [Коллинз 2002: 61].
В историко-философской традиции осмысления русской религиозной философии Серебряного века неоднократно прослеживались взаимодействия философов в рамках интеллектуальных группировок, однако здесь акценты ставились, как правило, на событийной информации или на точках конфликтов и расхождений. На точках же взаимодействия, тем более на внутренних коалициях разума, акценты не делались. Цель данной работы – рассмотреть созвучие идей В. Соловьева и Н. Бердяева через философию всеединства как конституирующих особый философский узел. Задачами работы становится, во-первых, обращение к некоторым созвучиям в идейной биографии двух мыслителей и, во-вторых, рассмотрение сизигии смысложизненных мифологических конструктов.
Оба философа в юности пережили увлеченность материалистическими воззрениями и оба, по мере духовного становления, отошли от этих воззрений. Оба поначалу пытались чисто рациональным путем обосновать истинность религии, и обоих сам ход такого обоснования привел к осознанию недостаточности рационализма и направил к новым способам постижения. Любопытно, что в период подготовки к написанию магистерской диссертации В. Соловьев некоторое время жил в монастыре, и даже был особо опекаем монахами с целью привлечения к вступлению на путь монастырского служения. Бердяев в период своего интеллектуального ученичества в Москве с 1908 по 1912 гг. активно посещал кружок Новоселова. Общаясь с членами кружка, изучая святоотеческую литературу, контактируя с монахами и людьми, близкими к старцам, он пытался приобщиться к смыслу православных таинств и практик. Именно в этот период Бердяев приступает и к повторному, более глубокому изучению наследия Соловьева, первое обращение к которому произошло в 1905 г., на стадии перехода к конкретному идеализму.
Достигнув целостного выражения своей философской системы в докторской диссертации, Соловьев порывает с академическим преподаванием и с увлечением погружается в написание книг, в культурно-религиозную публицистику. Через такого рода публичность философ стремится создать особую коммуникативную среду своих сторонников. Показательными в этом плане явились публичные лекции о Богочеловечестве, в период чтения которых к Соловьеву приходит осознание своего духовно-социального призвания. На все предложения возобновить преподавание философ отвечал отказом, ссылаясь на то, что это ограничит его творческую активность. Непродолжительный период профессорства Бердяева в советской Москве был для философа изначально вынужденной мерой, т.к. преподавательская работа давала право на получение продовольственного пайка. Но Бердяев с большим рвением отдается чтению лекций в «Вольной философской академии». В период эмиграции после относительно недолгого периода академического преподавания в Берлине, также вызванного необходимостью получения средств существования, к академической преподавательской карьере он больше не возвратится. Как и Соловьев, Бердяев посвящает свою жизнь написанию книг, культурнофилософской публицистике и чтению публичных лекций. Большое внимание он уделяет ясности и доступности своих мыслей, стремясь, подобно Соловьеву, создать в своих текстах особое коммуникативное пространство. Поэтому так важна для мыслителя личная переписка с читателями, а также встречи и живой диалог с ними, что особенно характерно для парижского периода.
И Соловьев, и Бердяев обращаются к поликонфессиональной церковной среде, выстраивая уровень своеобразной интерконфессиональности. Соловьев пытался под эгидой католичества объединить конфессии. Впоследствии (разочаровавшись в теократической утопии) в «Трех разговорах…» он выводит глав трех конфессий (православия, католичества, протестантизма) как дополняющих друг друга и совместной силой противостоящих Антихристу. Бердяев в эмиграции активно принимает участие в экуменическом движении, проводит интерконфессиональные собрания религиозных философов и деятелей христианских церквей, является активным деятелем «Лиги христианской культуры». В печатном органе русской религиозно-философской мысли «Путь» он публикует работы как папы римского и неотомистов, так и видных протестантских теологов.
Можно с уверенностью утверждать, что оба мыслителя переросли славянофильский антикатолический изоляционизм, и вместе с тем они видели исток духовнорелигиозного перерождения в русской народной среде, в русском православии. Так, Соловьев на смертном одре исповедуется и причащается у православного священника. Философ молился о еврейском народе как источнике особого принципа совмещения духовного начала с жизненностью, но в духовном перерождении мира он видел особую миссию русского народа, преданно несущего божественные истины. Соловьев утверждает, что русским даже не нужно иметь других особенных призваний и достижений. Бердяев, несмотря обращение своей жены в католичество (это был ответ на то, что православная церковь не уберегла Россию от большевизма) и широкий круг католических контактов, не переходит в католичество. Он остается прихожанином церкви Московского патриархата. Друг Бердяева протестантский пастор Эжен Порре в своей книге «Гости в доме священника» писал: «…хотя глубоко вселенский, и невзирая на ссоры, которые у него были с русской церковью как в ссылке, так и на его родине, он оставался основательно привязанным к православию, судьба которого связана с судьбой России» [Porret 1953: 50]. Таким образом, и Соловьев, и Бердяев видели в реальной Церкви особую соборность, которая позволит ей духовно переродиться в соответствии с запросами нового религиозного сознания.
Жизненный путь и Соловьева, и Бердяева прошел в метаниях между стремлением к созерцательному уединению с целью выработки идей и бурной общественной деятельностью. Соловьев активно общается со своими друзьями и последователями, ищет единомышленников в католической среде. Бердяев участвует в редакционных группах, в религиозно-философских обществах России, ведущую роль среди которых занимало религиозно-философское общество имени Владимира Соловьева, в Вольной философской академии и Религиозно-философской академии, в братстве святой Софии и Лиге христианской культуры.
И Бердяев, и Соловьев приходят к выводу, что прежний путь храмового, или исторического христианства завершен. Должно прийти новое христианство – гуманистическое. Новое обращение человечества к христианству они видят реализуемым не только через культ и служение, но и через свободное философское постижение верующим разумом христианских истин. Оба философа, признавая ценность откровения, идущего от Бога к человеку, вместе с тем настаивают на важности особого акта личного мистического постижения. Соловьев полагал, что необходимо интерпретировать данные откровения, опираясь на личный познавательный опыт. Бердяев также говорит о личном духовном, творческом усилии, посредством которого единственно возможно Богочеловеческое постижение.
Оба мыслителя настаивали на особой значимости философии как личного постижения истины (в отличие от религии как коллективного постижения) в современную духовную эпоху. При этом философия должна стать теософией. Под последней понимается познание, опирающееся на особое духовное постижение, на просветленный разум, а не на ratio. В свою очередь, религиозный опыт должен стать лич- ностным, экзистенциальным. Руководствуясь принципом целостности духовного опыта (принципом, воспринятым у славянофилов), они утверждают философию как дело жизни, связывающее мысль с реальностью мира, с живой историей. Ими утверждается особое пророческое служение как деятельное устремление к преображению жизни.
Мыслительное творчество Соловьева и Бердяева как особая духовная деятельность конституируется особым способом обоснования. Философы как бы проектируют идеальную смысловую картину мира, опираясь на которую человек может изменить свою жизнь к лучшему. Базовые константы этой картины хотя и запредельны для рациональной интерпретации, но необходимы для выводимых из них моральных регулятивов деятельности. Данный тип обоснования напоминает теологический дискурс, основывающийся на истинах откровения, предзаданных для рациональной деятельности и лишь допускающих дальнейшее выведение из них следствий рациональным путем. Здесь речь идет о личном мистическом опыте, который как бы заново просматривает прежний опыт откровения и оценивает его на предмет соответствия своему восприятию. Соловьев и Бердяев полагали, что мистическое видение возникает в переживании и хотя и не исчерпывается им, но все-таки родственно ему. Свою философию они пытаются построить на личном переживании Абсолюта.
Соловьев прорывается к Абсолюту через лично-трансцендентное начало в человеке и затем восходит от него к абсолютно трансцендентному. Сама Полнота описывается им сложными философскими спекуляциями, лишенными экзистенциальной составляющей. Бердяев также прорывается к Абсолюту лично-трансцендентно, но он оказывается ему изначально лично неудобен в дотварном состоянии. Поэтому он сразу берет его в акте творения и вместе со своим Другим – полноте, или свободе.
По-иному понимается и концепция Богочеловечества. Если для Соловьева это опирающаяся на общую духовную константу – трансцендентную идею Человека – достигаемая солидарность человечества, дорастающая до Всечеловечества, то для Бердяева сама эта духовная константа требует прибыльного пересотворения вместе со всем творением, а реальный духовный успех человечества является лишь предварительным условием. Соловьев идет от Богочеловека через Человекобога к Богочеловечеству, для Бердяева же Богочеловек и человечество соучаствуют в преображении в Человекобога.
Однако, несмотря на некоторые различия этих систем, их мистическая основа сизигийна. Поскольку при вхождении в вечность начала и концы совпадают, то Абсолют раскрывается как изначальная свобода, или первоединство в дотвар-ном состоянии, затем – как данность совершенства Бога-Творца и взаимосоот-несенного с ним творения, сохранившего первозданную природу, и затем как Абсолютный Человек и Абсолютное Человечество как предельная точка развития, где человеком достигается вхождение в Творца и человечество возвышается до Богочеловечества. Вопрос о соотношении мифологем Н. Бердяева и представителей киевского круга русской философии рассмотрен подробно в работе Титаренко [Титаренко 2006].
Негативный характер социальных процессов в России, а также бездуховность мира Запада приводили философов к росту ощущения зла, царящего в мире, и ориентации на иномирные постижения. Особые формы мышления задавали особое измерение их языковой личности – символический уровень. Отсюда требование предельной экзистенциально-терминологической четкости, ведь именно выраженное в правильной конфигурации слов высказывание должно устремить дух к нужной направленности. Язык становится символом инобытия. Внемлющий слову должен возвыситься до процесса его творения и тем самым оказаться в той реальности, которая символизирована.
Подведем итог. Духовные искания самобытной русской философии в лице Владимира Соловьева и Бердяева, возвысивших эту традицию до уровня мирового философского развития, были направлены на поиск путей эволюции от европейской гуманистической мысли в сторону христианского мировоззрения. Но как это бывает на путях эволюции, прежние формы настолько сковывали, настолько искажали другую реальность, что она не могла выступить в своем подлинном содержании. В поисках перехода от рационалистических форм гуманизма к духовному опыту христианства мыслители этой традиции воспроизводили, осознанно или неосознанно, подходы гностической мысли и родственные ей формы духовного опыта, и это накладывалось на их христианское миропонимание, порождая противоречивость их мысли. Русские философы полагали, что в обезбоженном гуманизмом мире они вновь повели человечество к Богу, но в своей философской апологетике христианства они, переходя границы философствования и вторгаясь в сферу религиозной веры, зачастую подменяли веру философствованием. Это приводило их к желанию изменять основы вероучения в соответствии со своими философскими идеями.
Список литературы Экзистенциальная коалиция разума. Вл. Соловьев - Н. Бердяев и современная российская идея (к 140-летию со дня рождения Н.А. Бердяева)
- Евлампиев И. И. 2000. История русской метафизики в XIX -XX веках. Русская философия в поисках абсолюта. Ч. 1. СПб.: Алетейя. 415 с.
- Коллинз Р. 2002. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф. 1283 с.
- Мотрошилова Н.В. 2003. Николай Бердяев: Философия жизни как философия духа и западная мысль XX века. -Историко-философский ежегодник 2001. М.: Наука. С. 249-263.
- Титаренко С.А. 2006. Влияние общения Бердяева с Шестовым и Булгаковым на формирование его мифо-религиозной позиции.//Вiсник Київського нац.унiверситету iм.Т.Шевченка: Сер. Фiлософiя. Полiтологiя. N 81/83. С. 102-105.
- Dietrich W. 1979. Nikolai Berdjajew, Anmerkungen und Exkurse. Berlin: Burckhardthaus-Verlag. S. 459-467.
- Porret E. 1953. Hotes d’un presbutère. Neuchàtel: Delachaux et Nestlé. 50 p.