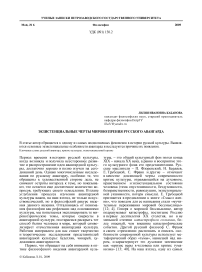Экзистенциальные черты мировоззрения русского авангарда
Автор: Кабанова Лилия Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обращается к одному из самых неоднозначных феноменов в истории русской культуры. Выявляются основные экзистенциальные особенности авангарда и исследуются причины их появления.
Русский авангард, кризис культуры, экзистенциальный кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/14749585
IDR: 14749585 | УДК: (091)
Текст научной статьи Экзистенциальные черты мировоззрения русского авангарда
Период времени в истории русской культуры, когда возникла и получила всестороннее развитие и распространение идея авангардной культуры, достаточно хорошо и полно изучен на сегодняшний день. Однако многочисленные исследования по русскому авангарду, особенно те, что обращены к художественной стороне дела, не снимают остроты интереса к теме, но показывают, что остается еще достаточное количество вопросов, требующих своего осмысления. В плане углубления процесса изучения авангардной культуры важен, на наш взгляд, не только искусствоведческий, но и философский ракурс видения данного явления. Отталкиваясь от понимания философии как рефлексии над основаниями культуры, мы попытаемся эксплицировать те мировоззренческие темы, которые свернуты в авангардной культуре, постараемся раскрыть тот способ бытия человека в мире, который символизирует отечественная авангардная культура. Рабочим материалом для нас станет творчество и теоретические исследования представителей авангардной культуры: будетлян, чинарей, художников-авангардистов.
Первое, что обращает на себя внимание в оптике философского видения авангардной куль- туры, – это общий культурный фон эпохи конца XIX – начала XX века, а равно и восприятие этого культурного фона его представителями. Русские мыслители – П. Флоренский, Н. Бердяев, Е. Трубецкой, С. Франк и другие – отмечают в качестве довлеющей черты современности кризис культуры, отражающийся на духовном, нравственном и экзистенциальном состоянии человека (тема опустошенности, бездуховности, безнравственности, равнодушия, экзистенциальной уязвимости, потери смысла). Е. Трубецкой признается в предисловии к книге «Смысл жизни», что поводом для ее написания стали «мучительные переживания мировой бессмыслицы» [12; 4]. Говоря о мировой бессмыслице, автор подразумевает катастрофы, постигшие Россию в первые десятилетия XX столетия, но в не меньшей степени катастрофизм сознания, более опасный, чем внешние катастрофические события. Другой русский философ С. Франк в своем стремлении распознать и описать особенности современной культуры использует метафорический образ «тьмы», нависшей над миром, и характеризует это духовное затемнение как «кризис веры в человека или кризис гуманизма» [13; 40]. На наш взгляд, одну из самых исчерпывающих характеристик переходной эпохи дает Н. Бердяев. Время «русского культурного ренессанса» в его терминологии характеризуется как период расцвета творческого потенциала и одновременного появления предчувствия неминуемой гибели: «В эти годы России было послано много даров, появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни» [1; 139–140]. Поэты видели не только грядущие зори, но что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир; религиозные философы проникались апокалипсическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. «Наш культурный ренессанс, – пишет Бердяев, – произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся огромной войны и огромной революции. Ничего устойчивого более не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние» [1; 140]. Основным из свидетельств русских философов может стать вывод о том, что кризис культуры в первую очередь отражается на самом человеке, перерастая в экзистенциальный кризис. Полагаем, что именно отражение этого кризиса человека мы и находим в культуре авангарда. Попытаемся проиллюстрировать данное утверждение. Рассмотрим следующие аспекты: экзистенциальное настроение «осколочности» (то есть неполноты, потери чувства целостности, отрыв от мира) и поиск смысловых ориентиров в русском авангарде.
Начнем с высказывания, весьма характерного для эпохи: «…потеря благополучия, отрыв от мира, это коренится очень глубоко. Все горизонты, предохранявшие человека, исчезли. С ними исчезло и чувство связи с миром, право на место и внимание в нем, чувство близости мира и важности событий, в нем происходящих. Большинству людей сейчас страшно и неуютно» [7; 227]. Оно принадлежит Л. Липавскому и отражает, на наш взгляд, основное настроение кризисной эпохи. Автор пишет о чувстве мира как своего дома, своей семьи – близкой когда-то, но утерянной, исчезнувшей, утраченной. В мире стало страшно и неуютно. Безропотное отчаяние говорит об опасном положении современного человека, когда под угрозой находится его укорененность в мире. В ситуации беспочвенности доминирующим становится настроение «осколочно-сти»1, неполноты, лишенности, уязвимости, обнаружения в данном бытии глубокого следа излома. Онтологические основания подобного настроения были подмечены М. Бланшо. Размышляя о современной живописи, он заметил, что «от того, насколько мы способны принимать вещь как таковую, зависит наше упование выразить себя через нее: надломленные существа на- ходят для себя лучшее соответствие в обломках и кусках» [2; 153–154]. Чувство надломленности и осколочности прорывается из манифестов и теоретических работ авангардистов2.
В продолжение темы обратимся к проблематике поиска смысла, которая, по-видимому, стала закономерным следствием настроения оско-лочности в культуре авангарда. Тема смысла тесно сопряжена здесь с констатацией бессмыслицы и очерчивает предельные контуры философствования представителей авангарда (В. Хлебников, А. Крученых, Д. Хармс, Я. Друскин, Л. Липав-ский, А. Введенский и др.). Следует отметить, что они не были одиноки в решении этой проблемы, ибо ею была захвачена и русская философская мысль3. Однако, в отличие от опыта русской философской мысли, поиск смысловых ориентиров в авангардизме осуществляется через отказ от экспликации каких бы то ни было смысловых коннотаций, а то и вовсе через демонстрацию художественных приемов по уничтожению смысла (заумная поэзия, сдвигология стиха, беспредметность, уход от сюжетной линии повествования). Вероятно, целью подобных нововведений и приемов, своеобразных «машин» по уничтожению смысла, является не что иное, как все тот же поиск смысла, ибо «цель – это поиск смысла, в то время как способы постигнуть этот смысл могут быть совершенно разными» [3; 16]. Одним из примеров, подтверждающих сказанное, является творчество будет-лян (А. Крученых, В. Хлебников, Д. Бурлюк). Поиск смысла осуществляется ими в форме ухода от предустановленных культурных и, в случае с будетлянами, лингвистических норм и правил. В своей программной статье «Декларация слова как такового» они заявляют, что «новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот» [6; 18]. Новая словесная форма – это часто только бессмысленное для постороннего уха сочетание звуков, гласных и согласных. Крученых использует термин «сдвиг», который, с одной стороны, свидетельствует о процессе искусственной деформации языка, а с другой – является необходимой ступенью в деле обретения смысла, который не может быть ни доступен, ни понят в готовом уже виде, но требует постоянного возобновления усилия и работы по его нахождению. В деле создания нового «вселенского» языка будетляне отстаивают свое право на понимание значения звука: согласные во «вселенском» языке отвечают за «быт», а гласные – за бытие. Борьба с бытом, его преодоление в опыте творчества становятся важной процедурой приобщения к эстетике авангардизма. Тема быта и бытия нашла продолжение в творчестве Хлебникова. Развиваемая им идея словотворчества рождается из противостояния быту (культуре) как компиляции устойчивых сознательных реакций. В работе «Наша основа» он замечает, что «слово делится на чистое и на бытовое, какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи, отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение Земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки» [15; 233]. Освобождению от быта может служить сдвиг, скажем, любая оплошность, описка, оговорка, опечатка: «…такая опечатка вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику» [15; 233]. (Например, чудо и чудеса дает слова худеса, времеса, су-деса, инеса; праздник – мраздник и т. д.).
Интерес к теме быта и бытия нарастает в позднем авангарде, примером тому служит творчество чинарей и ОБЭРИУтов. Они наделяют статусом бессмысленного бытовое пространство человека. В 1920-е годы Д. Хармс и его близкий друг А. Введенский, у которого никогда не было своего угла, где бы он мог спокойно работать, декларируют безбытность как единственно возможный способ существования в мире. В рассказе Хармса «Утро» экзистенциальная история совмещения плана быта (отсутствие сигарет и денег, голод, необходимость найти деньги на обед, люди, толкущиеся без толку по Невскому, хамство, ругань: «…толкнув нечайно друг друга, они не говорят “простите”, а кричат друг другу бранные слова, все говорят друг другу ты» [14; 308–309]; их атмосфера – теплый вонючий воздух, они вываливаются из трамвая прямо под колеса) и бытия (жизнь сознания, не текущая параллельно со временем) текст, желание написать то, что еще не написано и не сказано; ожидание чуда:
«Я просил у Бога о каком-то чуде.
Да, да, надо чудо. Все равно, какое чудо.
Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежнему.
Да ничего и не должно было измениться в моей комнате.
Должно было измениться что-то во мне» [14; 309].
В творчестве Хармса быт и бытие, словно два полюса сущностного каркаса мира, вмещающего в себя все возможные оттенки грусти, отчаяния, надежды, с одной стороны, и с другой – потребности творчества, которое при условии выпадания из привычной организации жизни становится единственной скрепляющей нитью с самим собой. Стараниями человека по обретению себя самого выстраивается определенная граница между самым близким и тем, что не связано с интимным способом бытия. Оттого все внешнее как-то завуалировано внутренним, экзистенциальным устремлением, оно, это внешнее, интериоризируется, переводится на особый язык сознания. Чтобы не потерять себя и свое слово в исчезающей реальности, слово должно быть произнесено или помыслено, оно должно быть, случиться в мире, тогда и только тогда слово, как и поступок, обретает возможность вплетения в онтологическое ожерелье мира. Весь смысл творчества понимается как возможность сказать слово исходя из своей исключительной метафизической позиции, означающей одновременно и территорию личной свободы. Хармс размышляет о траекториях жизненного пути: быт, безбытность и бытие. Человек не может жить в сопряжении их, попадая в какую-либо одну, доопределяя или теряя себя. В культуре всегда имеется больше или меньше места для каждой из них. Неевклидова культур-гео-метрия. Больше или меньше – условность. Путь бытия не затрагивает истечение времени в песочных часах мира. Путь бытия не покоится на культурном поле. Он это поле формирует, находясь вне топоса чего бы то ни было, существующего по причине иного, другого, и потому его соотносят с логосом, мыслью, богом, огнем, числом, благом, душой. Путь бытия – это путь философии и заблудившегося, одинокого путника, но это также и путь поэта.
В России начало века становится временем трудного сближения (и вновь отталкивания) бытовых и бытийных болевых точек в жизни людей. Возникает настроение метафизического томления, поиска бытийных основ мира на фоне невозможности их обретения в сложившейся системе культуры. Эта тема традиционно была и остается одной из самых напряженных в русской философии и литературе. Одновременно и независимо от влияния литературы и философии в авангардизме ключевыми становятся вечные и любимые темы русской классической литературы и философии, призванные как-то доопределять человека: жизнь, смерть, мир, Бог, время. В качестве примера обратимся к некоторым размышлениям чинарей о феномене времени4. Проблема времени является одной из самых актуальных для чинарей. Каталепсия времени, ощущение его бессвязности и раздробленности мира; время, понимаемое как несоответствие ритмов или как внутренний маятник человека, – это лишь немногие интуиции чина-рей относительно проблемы времени. На что похоже время, спрашивает Л. Липавский, признавая всю странность этого вопроса. «Время единственно, всеобъемлюще, ничего подобного ему нет, мы находимся в нем, как в воздухе… Очевидно, есть какая-то коренная ошибка, от которой надо освободиться, чтобы понять время» [11; 253]. Понять, что такое время, – основная проблема человека на протяжении всей его истории. Самое главное в жизни одновременно оказывается самым простым и одновременно неизвестным, точно так же, как тысячи лет назад. Во все времена человек принимал время, пространство, предметность мира за что-то само собою разумеющееся. Однако интерес к этому не утихает и является отличительным признаком человека: «…мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает по времени, а состоит из него» [11; 253]. Липавский продумывает символы времени, такие как колесо, свеча, волна. Можно представить, пишет он, что в летаргическом мире появится один-единственный изменчивый элемент, например точильщик со своим вращающимся колесом. Этот единственный изменчивый элемент пересилит всемирный сон. С его появлением в мире появится время, отсчитываемое оборотом колеса. Стоит остановить колесо, и время исчезнет. Так время приобретает почти физически ощутимую поверхность несоответствия ритмов или волн: волны человека и волны мира. Когда волна человека совпадает с волной мира, наступает то, что чинари назовут промежутком или вечностью. Здесь, в этих промежутках, возникает страх и ужас. Факт появления подобных размышлений говорит о стремлении любым путем отыскать себя и свое время в жестком водовороте истории, избежать промежуточных состояний, в которых время останавливается. Основополагающим в этом мучительном поиске является представление о том, что «время само по себе есть непосредственное имение себя» [11; 484– 485]. Способность к обладанию позволяет четче осознавать свое присутствие в мире, развенчивает разного рода самообманы и видимости. Обретение своего времени, своей самости – это определенный и чрезвычайно важный акт, означающий, что время каким-то образом состоялось. В новоевропейской философии начиная с Декарта под таким состоявшимся временем подразумевается акт мысли, поступок, событие. Когда нет событий, тогда и нет времени, наступает пауза, промежуток, вечность, смерть. Ле- таргический мир – это мир безвременья. Событие должно состояться для того, чтобы не чувствовать пустоту времени. Если что-то и существует, то только здесь и сейчас. Понимание важности «здесь и сейчас», или «мига», означает, что в решающем и будущее определяющем смысле нельзя ждать добавления смыслов во времени. Во времени смыслы не добавляются. Между двумя мгновениями появляется несуществующее, невозможное, полное отсутствие, не зависящее от состояний человека, но скорее определяющее во многом эти состояния. Там, где не обнаруживаются события, возникает символ смерти: «Последний знак – смерть – непонятен. Он внушает ужас» [11; 506].
Суммируем сказанное и подведем некоторые итоги. Возникновение и распространение авангардной культуры приходится на судьбоносные, «переходные» для России времена, когда ситуация в недрах русской культуры переживалась как кризисная. Как мы постарались показать, эта тема кризиса культуры нашла отражение в русском авангарде (по крайней мере, в некоторых его явлениях) как тема экзистенциального кризиса. По сути, авангардизм представляет собой сознательную реакцию на кризисные явления в культуре, при которой не только признается и принимается голая поверхность безысходности культурных реалий, но и возникают состояния и навыки противостояния этим явлениям в опыте самостоятельной мысли. И, быть может, самое главное: авангард, на наш взгляд, воплощает опыт парадоксальности присутствия человека в мире, когда неполнота, кризис, осознание фундаментальной незавершенности действительности могут и должны стать позитивным фактором, заставляющим человека жить и творить.
Список литературы Экзистенциальные черты мировоззрения русского авангарда
- Бердяев Н. Самопознание. Л.: Лениздат, 1991. 398 с.
- Бланшо М. Пространство литературы: Пер. с франц. М.: Логос, 2002. 288 с.
- Жаккар Ж.-Ф. Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995. 471 с.
- Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. С. 357-378.
- Кандинский В.В. О духовном в искусстве//Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2001. C. 23-141.
- Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера/Вступ. статья, сост., подг. текста, примеч. С. Р. Красицкого. СПб.: Литературный проект, 2001. 480 с.
- Липавский Л. Разговоры//«.Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях: В 2 т./Сост. В. Н. Сажин. М.: Ладомир, 2000. Т. 1. С. 174-254.
- Малевич К. О новых системах в искусстве//Малевич К. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913-1929. Собр. соч.: в 5 т. М.: Гилея, 1995. Т. 1. С. 153-184.
- Мансуров П. Декларации. Манифесты. Переписка//Мансуров П. Петроградский авангард. СПб.: Государственный Русский музей, 1995. С. 40-60.
- Матюшин М. Опыт художника новой меры//К истории русского авангарда. Стокгольм: Hylaea, 1972. С. 159-187.
- «.Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях: В 2 т./Сост. В. Н. Сажин. М.: Ладомир, 2000. Т. 1. 846 с.
- Трубецкой Е.Н. Смысл жизни М.: Республика, 1994. 432 с.
- Франк С.Л. Свет во тьме. М.: Факториал, 1998. 256 с.
- Хармс Д. Утро//Хармс Д. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 308-309.
- Хлебников В. Наша основа//Стихи, записные книжки, письма, дневники. Собрание произведений Велимира Хлебникова/Под общ. ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. Т. 5. С. 228-243.