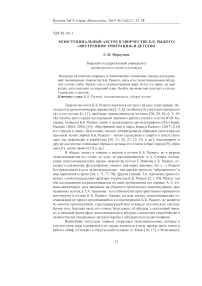Экзистенциальный абсурд в творчестве Б. Б. Рыжего: "внутренняя эмиграция" в детство
Автор: Меркушов Станислав Федорович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на наличие широкого в тематическом отношении спектра исследований, посвященных творчеству Б.Б. Рыжего, связь его с экзистенциальным абсурдом учтена слабо. Между тем в художественном мире поэта эта грань, на наш взгляд, часто выходит на передний план. Особое звучание она получает в стихах о прошлом, о детстве.
Б. б. рыжий, экзистенциализм, абсурд, поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/146281500
IDR: 146281500 | УДК: 82.161.1
Текст научной статьи Экзистенциальный абсурд в творчестве Б. Б. Рыжего: "внутренняя эмиграция" в детство
Творчество поэта Б. Б. Рыжего изучается сегодня с разных точек зрения. Исследуются хронотопическая парадигма [2; 3; 8], особенности структуры авторского «я» в его поэзии [5; 13], проблемы преемственности поэтики [28; 29; 30; 6; 7; 19; 18]. Особое место среди исследований занимают работы ученого и поэта Ю.В. Казарина, знавшего Б.Б. Рыжего лично и посвятившего две монографии («Поэт Борис Рыжий» (2004; 2016) [15], «Внутренний мир и миры Бориса Рыжего» (2017) [14]) его «трудам и дням». Безусловно, многие литературоведы обращают свои взоры на основной мотив лирики Б.Б. Рыжего – мотив стремления к смерти и сопутствующую ему рефлексию и атрибутику [20, 21; 26, 27; 12; 10; и др.]. Анализируют и другие достаточно очевидные образы и мотивы его стихов (образ города [9], образ окна [1], мотив памяти [11] и др.)
В общем, пишут и говорят о многом в поэзии Б. Б. Рыжего, но в разрезе экзистенциализма его стихи, по сути, не рассматриваются. А. А. Семина, подчеркивая экзистенциалистское начало творчества поэтов Г. Иванова и Б. Рыжего, отсылает к указанному философскому учению: она верно замечает, что «…у Рыжего Бог представлен в духе экзистенциализма – как адресат протеста “заброшенного” в мир лирического героя» [28, с. 71, 77, 78]. Другой ученый, Т.А. Арсенова, прямо отмечает «экзистенциальный характер» творчества Б. Б. Рыжего [2, с. 83]. Между тем оба исследователя сосредотачиваются на иной проблематике его лирики: А. А. Семина акцентирует свое внимание на общности трагического мироощущения двух названных поэтов, а Т. А. Арсенова – на особенностях пространственно-временного континуума в поэзии Б. Б. Рыжего. Однако, на наш взгляд, экзистенциальная составляющая не просто прослеживается в стихотворениях Б. Б. Рыжего, но является во многом организующей, структурирующей всю искомую поэтическую систему. Кроме того, большая часть его стихов, безусловно, об абсурде, с апелляцией именно к западной философии экзистенциального абсурда с апологией самоубийства и творчества как генеральных методов борьбы с абсурдностью существования.
Важнейшие постулаты главных теоретиков экзистенциализма, которые в том или ином виде содержатся в их трудах (имеются в виду прежде всего книги и работы «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек» А. Камю [16, 17], «Экзистенциа- лизм – это гуманизм» и «Бытие и ничто» Ж. П. Сартра [25, 24], «Духовная ситуация времени» и «Смысл и назначение истории» К. Ясперса [33, 34], статьи и выступления М. Хайдеггера (в частности, из сборника «Слово и бытие») [31], могут быть представлены следующим образом:
-
1. Основную роль для объяснения специфики человеческого бытия получает категория абсурдности существования с присущими ей характеристиками природы отчаяния, страха, смерти, одиночества. Отчужденность, заброшенность, абсурдность становятся основополагающими для экзистенциального человека. Высокий интерес к пограничным ситуациям, в которых существование человека постоянно находится в состоянии антиномического распада. «Духовная ситуация человека возникает лишь там, где он ощущает себя в пограничных ситуациях» [34, с. 321].
-
2. Акцентирование внимания на обостренном восприятии индивидом окружающего, особенно всего негативного, что оно в себе несет. В этой связи личность пребывает в состоянии перманентной борьбы с социумом, государством и пр., которые осознаются как враждебные ввиду своей конвенциально-манипулятивной идеологии, выражающейся в навязывании своих воли, морали и правил.
-
3. Свобода личности и свобода выбора объявляются высшими жизненными ценностями.
Указанные положения творчески преобразуются в поэзии Б. Б. Рыжего в ее ведущие мотивы, которые можно назвать экзистенциальными. Эти мотивы выступают как базисные, из них генерируются все остальные, в том числе особенно специфичные – танатологические.
Ощущение абсурдности бытия свойственно как самому поэту, так и его герою, но воспринимается оно и тем, и другим нередко совершенно оригинально. В частности, на наш взгляд, поэт и его герой не всегда противостоят абсурду как некоему бесконечному повторению объективных жизненных событий и обстоятельств или представлений о них. Абсурдным представляется мир взрослых с его суррогатными ценностями, от которого и герой, и поэт пытаются скрыться в воспоминаниях о детстве и юности в их многослойных модификациях (города детства, родной двор, улица Титова в Свердловске, соседи, больничные палаты, алкогольные вечеринки, общежитие ПТУ и мн. др.). Соответственно, таким образом поэт и герой стремятся вернуть прошлое, причем не просто в мечтах, а вплоть до его возвращения в материальных, осязаемых параметрах. Таким образом, как верно замечает исследователь Т. А. Арсенова, «Пытаясь совладать с необратимым ходом личной истории, лирическое сознание Рыжего допускает различные парадоксы, метаморфозы времени» [2, с. 83]. Кроме того, она вслед за знаменитыми отечественными теоретиками литературы (прежде всех М. М. Бахтин и т. д. [4]) справедливо предлагает рассматривать героя, время и пространство стихов Б. Б. Рыжего в их взаимосвязи [2, с. 84].
Идеальный локус детства в поэзии Б. Б. Рыжего обретает разнообразные очертания. Это может быть потусторонний город Уфалей (Верхний Уфалей близ родного города поэта Челябинска), в который всегда хочется уехать из города Свердловска, ставшего для поэта вторым родным, тем не менее от которого он был так или иначе отчужден, как и от многого мирского («Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей» (1999)). В город Уфалей стремится герой от абсурдности, пошлости, самообмана, фальши и всевозможных ловушек мира взрослых. Мир города Уфа-лея настоящий, чистый и естественный: «Можно лечь на синий воздух и почти что полететь, / на бескрайние просторы влажным взором посмотреть: / лес налево, луг направо, лесовозы, трактора. / Вот бродяги-работяги поправляются с утра. / Вот с корзинами маячат бабки, дети-грибники. / Моют хмурые ребята мотоциклы у реки» [22, с. 443]. Подлинность его сравнима с тем самым присутствующим в индивидууме древним идеалом, который стараются, но не могут забыть в навязываемой сутолоке т.н. реальности, когда нужно вечно куда-то бежать, стремиться к каким-то целям, не замечая никого и ничего вокруг. Это истина, божественная природа творца, всегда пребывающая в каждом. Потому и возвращаются к себе, в город Уфалей, герой со своими друзьями, так и оставшийся «желторотым дуралеем» [Там же] в глазах взрослых, и вся «свердловская шпана» [Там же], с которой героем и поэтом постоянно ощущалось определенное родство. «…поэт «всюду неуместен, как ребенок», Взрослые судьи не знают, что делать с этим ребенком, – гнать его за Урал или, наоборот, привозить с Урала?» [30, с. 32], – думается, в этих словах Б.Б. Рыжего (во многом – о себе самом) еще одна подводка к подтексту этого и других стихотворений «детской» тематики, связанных также с экзистенциальной тоской по СССР, шире – тоске по тем «нам», которые, «превратившись в тени», остались там, в СССР, когда «нас смерти обучали» («Там вечером Есенина читали…» (1997), «Гриша-Поросенок выходит во двор…» (2000–2001), «Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом…» (2000–2001) и др.). Еще позже, уже практически перед трагической гибелью поэта, по сути, «выдуманный» им городок начинает «барахлить» из-за понимания лирическим субъектом нескончаемости жизни и невозможности выхода за пределы ее беспрестанно вращающегося колеса («Городок, что я выдумал и заселил человеками…» (2000–2001)).
Но герой Б.Б. Рыжего, экзистенциально противопоставляя себя всему, одновременно не просто ощущает родство, а чувствует «всемирную отзывчивость» ко всем, в первую очередь к малым, несчастным, бесприютным, в том числе слабым и больным. По словам автора короткой заметки в «Независимой газете» за 2000-й год, дублирующей речь поэта на церемонии присуждения премии «Антибукер» (этим автором явился, конечно, сам Б.Б. Рыжий), «Поэт стоит не на стороне справедливости, а на стороне жалости – не сострадания, но высокого сожаления, объяснить которое, выразить можно только стихотворением» [23]. Его герой вбирает в себя их боль и мучения, не понаслышке зная их меру. Более того, он сам становится этими обездоленными, заброшенными в абсурдный мир. Уход-освобождение от юдоли скорби и абсурда видится уже не в попытке метафизического бегства в город детства. Прекращение страданий мыслится в смерти – сначала как в вынужденной мере, затем как в единственно возможной.
Время действия стихотворения «Ордена и аксельбанты…» (1999) – опять-таки, детство героя. «Местный даун, дурень Петя» [22, с. 435] восхищенно любуется на похороны, первая часть которых – прощание – традиционно происходила в советское время во дворе, в данном случае родном дворе лирического субъекта. Провожают некоего адмирала, что для фабулы стихотворения совершенно не важно: торжественные погребальные обряды мыслились вполне обыденно, но при этом обязательно с пафосными речами и рыданиями. Это с иронией замечает нар-ратор, подчеркнуто скороговоркой моментально обрисовывая будничную картинку: «В трубы мятые трубили, / отставного хоронили / адмирала на заре, / все рыдали во дворе» [Там же]. Смерть правильно, по мысли нарратора, воспринимает именно названный выше персонаж: «И на похороны эти / любовался сам не свой / местный даун, дурень Петя, / восхищенный и немой. / Он поднес ладонь к виску. / Он кривил улыбкой губы. / Он смотрел на эти трубы, / слушал эту музыку» [Там же]. В целом в правильном ракурсе на образную специфику лексемы «музыка» смотрит
А. В. Казанцев, считая ее контекстуально эквивалентной идее искусства вообще, «воплощением идеального», «нравственным ориентиром» [13]. Между тем, с нашей точки зрения, музыка у Б. Б. Рыжего ближе к области поэзии в смысле особого умения видения жизни и отношения к ней, что влечет с собой весь спектр жизненных красок, палитру всего того, что предлагает жизнь (включая искусство и многое, многое другое) (ср., у М. Н. Эпштейна в книге «Поэзия и сверхпоэзия», особенно в разделе «Сверхпоэзия» [32]). Кроме этого, и в контексте стихотворения «Ордена и аксельбанты…» рамки семантического поля «искусство» как «музыка» расширяются: земные ипостаси искусства здесь «перерастают» в запредельные, что подчеркивается и переносом ударения в слове «музыка» (в то же время этим же подчеркивается индивидуальность такой музыки, как достояния поэтов, и в частности самого Б. Б. Рыжего: ср.: «Но не божественные лики, / а лица урок, продавщиц / давали повод для музы́ ки / моей, для шелеста страниц» («Я жил как все – во сне, в кошмаре…» (цит. по: [29, с. 7]); а также, к примеру, Б. А. Слуцкого, которым восхищался Б. Б. Рыжий («Музыка над базаром», «Музшкола имени Бетховена в Харькове»). Потому далее, в уже приводимом стихотворении «Городок, что я выдумал и заселил человеками…» (2000–2001) музыка и вовсе «вырубается <…> как музыкант ни старается» [22, с. 513], из-за бессмысленности своего продолжения. Восторг по поводу похорон испытывает именно находящийся «не в своем уме», неадекватно с точки зрения «нормальных» людей воспринимающий материальную реальность душевнобольной. Для первых смерть – нечто тотально и фатально финальное, иллюстрирующее абсолютное исчезновение человека как телесной оболочки, которая осознается как единственное его воплощение. Опосредованно наличие сознания и духа за скорлупой тела и смерти как перехода и нового начала (к чему можно относиться радостно) понимает и принимает «дурень Петя» без «рассудка и рациональности», что, несомненно, радует и рассказчика. Однако далее следует тягостный эпизод с похоронами самого Пети, но тягостен он не в связи с фактом кончины, а с тем, что, «...когда он умер тоже, / не играло ни хрена, / тишина, помилуй, Боже, / плохо, если тишина » [Там же, с. 435] (курсив мой. – С. М.). (Музыка в предложенном нами значении не должна прекращаться, но так или иначе прекращается.) И герой сокрушается в этот раз, что в силу своего малолетства он не смог устроить освобождающемуся от своей бренной жалкой телесной оболочки носителю древнего знания, каким, на наш взгляд, является Петя (что подчеркивается отсутствием «разума», психическим отклонением и немотой), достойных похорон.
Возвращается герой из абсурдного мира взрослых в дымку юности города Свердловска в стихотворении «Чтение в детстве – романс» [Там же, с. 436]. Узнаваемые приметы одного из крупнейших промышленных центров России, и в то же время достаточно характерные для других городов, детально проступают в первой строфе: «Окраина стройки советской, / фабричные красные трубы», трансформируясь в «Еременко медные трубы» [Там же]. (Здесь также разрабатываются постоянные в стихах Б. Б. Рыжего мотивы «музыки» и «труб».) Б. Б. Рыжий не просто знал поэзию, предшествующую ему или современную. По справедливому замечанию Д. А. Сухарева, он восстановил «контекст» поэзии и продолжил «некрасовскую» ее линию [29, с. 6–7]. В лирике Б. Б. Рыжего звучат голоса разных поэтов, начиная с К.Д. Батюшкова и заканчивая Е. Б. Рейном, причем и как герои, и как «глубоко переработанные источники» путем приема «скрытописи» (терминология Д. А. Сухарева (см.: [29]), притом что он, по самоопределению, – действительно, «традиции новой отец» (см.: [Там же]). Так, фигура А. В. Еременко в сочетании «Еременко медные трубы» – это фигура одного из поэтов, появляющегося в качестве примера, некоего обобщенного образа поэзии в целом. Б. Б. Рыжий подчеркивает, что важность представляет для него в том мире именно содержащаяся в этой повторяющейся формулировке метафора поэзии в уже отмеченном нами значении.
Таким образом, «внутренняя эмиграция» в прошлое героя представляется не только и не столько реверсом в Свердловск юности и даже не столько в первые значительные мгновения пребывания с будущей женой (Ира К. в стихотворении – Ирина Князева). Это возврат памяти к моментам открытия для себя мира поэзии, даже не открытия, а узнавания поэзии в себе и вокруг, что эксплицировано в данном случае в присутствии в фразе-ретрансляторе образа поэта А. В. Еременко.
Уход в творчество от абсурда действительности – один из главных экзистенциальных мотивов стихов Б. Б. Рыжего, коррелирующий с основным мотивом философии А. Камю, но у поэта реализующийся весьма самобытно. Об этом – в следующей нашей статье.
Список литературы Экзистенциальный абсурд в творчестве Б. Б. Рыжего: "внутренняя эмиграция" в детство
- Арсенова Т. А. Кинофильм как модель хронотопа прошлого в лирическом сознании Бориса Рыжего // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2011. Вып. 4. С. 83-89.
- Арсенова Т. А. Метаморфозы времени в лирическом сознании Бориса Рыжего // Вестник Нижегородского университета им Н. И. Лобачевского. 2013. № 1 (2). С. 15-18.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 234-407.
- Бокарев А. С. Структура авторского «я» в поэзии Бориса Рыжего // Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 4. С. 156-159.
- Быков Л. П. Борис Рыжий и Сергей Гандлевский // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 9-21.
- Быстров Н. Л. Борис Рыжий и Иосиф Бродский: некоторые параллели // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 21-38.
- Верхейл К. Жить по кругу или жить по прямой? О стихотворении Бориса Рыжего «Где обрывается память, начинается старая фильма…» Заметки к докладу // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 114-130.
- Глухова Ю. Ю. Образ города в поэзии Бориса Рыжего // Теоретический и практический взгляд. 2015. № 3. С. 29-32.
- Ерлыгаева С. С. Мотив смерти в поэзии Б. Рыжего (на материале поэтического сборника «Типа песня») [Электронный ресурс] // Огарев-online. 2018. № 5. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/motiv-smerti-v-poezii-b-ryzhego-na-materialepoeticheskogo-sbornika-tipa-pesnya (дата обращения: 10.05.2019).
- Иванилова Е. В. Мотивы памяти и преображения в лирическом цикле Бориса Рыжего «Суждения» // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 180-209.
- Иванова С. А. Художественное своеобразие поэзии Б. Рыжего [Электронный ресурс] // Огарев-online. 2015. № 6. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/ khudozhestvennoe-svoeobrazie-poehzii-b-ryzhego (дата обращения: 10.05.2019).
- Казанцев А. В. Саморефлексия в поэзии Б. Б. Рыжего: варианты реализации [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. №9 (17). URL: www.sisp.nkras.ru (дата обращения: 06.04.2018).
- Казарин Ю. В. Внутренний мир и миры Бориса Рыжего. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. 234 с.
- Казарин Ю. В. Поэт Борис Рыжий. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 324 с.
- Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
- Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 222-318.
- Комаров К. М. «Маяковский - вот это да…» Борис Рыжий и Владимир Маяковский // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 48-64.
- Миронов А. В. «Благодарю последнее мгновенье!» Мотив благодарности в поэтических контекстах: М. Лермонтов - Л. Губанов - Б. Рыжий // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 38-48.
- Непомнящих Н. А. «Чувство смерти» в поэзии Бориса Рыжего // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 141-158.
- Непомнящих Н. А. Мотив воли к смерти в творчестве Бориса Рыжего // Сибирский филологический журнал. 2017. № 2. С. 110-122.
- Рыжий Б. В кварталах дальних и печальных. М.: Искусство - XXI век, 2017. 576 с.
- Рыжий Б. Вся правда о литературе. За круглыми столами ресторана «Серебряный век» прошло юбилейное торжество «Антибукера» // Независимая газета. 2000. 25 января.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: АСТ, 2017. 928 с.
- Сартр Ж. П. Экзистенциализм - это гуманизм // Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 319-344.
- Семина А. А. Голос из небытия: «Посмертный дневник» Г. Иванова и Б. Рыжего // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2016. № 12. С. 88-96.
- Семина А. А. Поэтика застывшего мгновения в стихотворениях Георгия Иванова и Бориса Рыжего // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 4 (30). С. 161-165.
- Семина А. А. Резонанс трагического звучания: поэзия Г. Иванова в рецепции Б. Рыжего // Вестник Балтийского федерального университета. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2017. № 2. С. 71-79.
- Сухарев Д. А. Влажным взором // Рыжий Б. В кварталах дальних и печальных. М.: Искусство - XXI век, 2017. С. 5-26.
- Фаликов И. Борис Рыжий. Дивий камень. М.: Молодая гвардия, 2015. 384 с.
- Хайдеггер М. Лекции по метафизике. М.: Языки слав. культуры, 2016. 176 с.
- Эпштейн М. Н. Поэзия и сверхпоэзия: О многообразии творческих миров. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 480 с.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. 528 с.
- Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М.: Канон, 2012. 296 с.
- Арсенова Т. А. Динамика образа окна в поэтическом мире Бориса Рыжего // Борис Рыжий. Поэтика и художественный мир. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. С. 80-112.