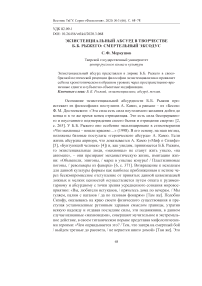Экзистенциальный абсурд в творчестве Б.Б. Рыжего: смертельный эксодус
Автор: Меркушов Станислав Федорович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Экзистенциальный абсурд представлен в лирике Б. Б. Рыжего в своеобразной поэтической рецепции философии экзистенциализма и проявляет себя на хронотопическом и образном уровнях через пространственно-временные сдвиги и субъектно-объектные модификации.
Б.б. рыжий, экзистенциализм, абсурд, поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/146281726
IDR: 146281726 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.068
Текст научной статьи Экзистенциальный абсурд в творчестве Б.Б. Рыжего: смертельный эксодус
Осознание экзистенциальной абсурдности Б. Б. Рыжим проистекает из философских постулатов А. Камю, а раньше – из «Бесов» Ф. М. Достоевского: «Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти» [2, с. 265]. У Б. Б. Рыжего оно особенно эксплицировано в стихотворении «Что махновцы – вошли красиво…» (1998). В его основу, на наш взгляд, положены базовые постулаты «героического абсурда» А. Камю. Если жизнь абсурдна априори, что доказывается А. Камю («Миф о Сизифе» [5], «Бунтующий человек» [4]) и, как увидим, принимается Б.Б. Рыжим, то экзистенциальные люди, «махновцы» не станут жить уныло, «на автомате», – они презирают механистическую жизнь, имитацию жизни: «Обыватели, эпигоны, / марш в унылые конуры! / Пластилиновые погоны, / револьверы из фанеры́ » [6, с. 371]. Возвращение к исходным для данной культуры формам как наиболее приближенным к истине через бескомпромиссное отступление от принятых данной цивилизацией ложных и мелких ценностей осуществляется путем отката к рудиментарному и абсурдному с точки зрения усредненного сознания мировосприятию: «Вы, любители истуканов, / прячьтесь дома по вечерам. / Мы гуляем, палим с наганов / да по газовым фонарям» [Там же]. Подобно Сизифу, оказываясь на краю своего физического существования и преступая установленные рутинным здравым смыслом границы, утратив всякую надежду и отдавая последние силы, эти подвижники, в данном случае названные «махновцами», совершают мучительное и экстремальное действие, в своем титаническом порыве представая мифологическими героями: «Чем оправдывается это? / Тем, что завтра на смертный бой / выйдем трезвые до рассвета, / не вернется никто домой» [Там же]. Это действие содержит в себе мощный заряд экзистенциального абсурда, поскольку воплощается в не приемлемых, не понимаемых и отрицаемых человеком социальным носителях аксиологии и целеполагания, претендующих на глобальное преображение мира, но заведомо обреченных на провал: «А всегда только так и было. / И вовеки пребудет так. // Вы – стоящие на балконе / жизни – умники, дураки. / Мы – восхода на алом фоне / исчезающие полки» [Там же]. В этом стихотворении «махновцы» (для усредненного сознания – бандиты) – это также и поэты («за душой полтора сонета» [Там же]). Параллели вплоть до аналогий между бандитами и поэтами преобразуются у Б.Б. Рыжего в лейтмотив («Приобретут всеевропейский лоск…» (1998), «Подались хулиганы в поэты» (1999), «Ода (Ночь. Звезда. Милицанеры…)» (1997) и др.).
Именно в детстве, в юношестве, в прошлом Б.Б. Рыжий находит для себя смысл жизни, с детством ассоциируется у него не только момент встречи с поэзией, но и момент знакомства с уголовным миром, «миром у́рок», который кажется ему подлинным, настоящим, правдивым, лишенным иллюзий, осмысленным, где господствуют собственные законы чести и даже присутствует определенная романтика смерти: «И опять загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева / в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так, / если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили, / но однажды столкнулись – какой-то там тесть или зять / забуровил за водкой, они мужика замочили. / Их поймали, и некому стало меня защищать» («Только справа закроют соседа, откинется слева…» ( https://www.stihi.ru/2013/03/22/4215 ). Некому «защищать» от бессмыслицы мира повзрослевшего «Бориску», и эта бессмыслица распространяется, постепенно заполняя всё вокруг, что увидим далее – в финальных стихах.
В стихотворении «Я пройду как по Дублину Джойс….» (1998) снова появляется образ времени в его экспликации как осмысленного прошлого, смысл которого теперь трансформирован: «Чего было, того уже нет / И поэтому очень печально…» [6, с. 370]. А было так: «Подвозили наркотик к пяти, / а потом до утра танцевали, / и кенту с портаком “ЛЕБЕДИ” / неотложку в ночи вызывали» [Там же]. В прошлых «развлечениях» криминальных «кентов» лирический субъект также находит очарование и смысл, потерянный во многом в настоящем, но сохраняющийся в своем главном – в том, что это было, и в том, что возможен возврат воспоминаний: «А теперь кто дантист, кто говно / и владелец нескромного клуба. / Идиоты. А мне все равно. / Обнимаю, целую вас в губы». И в этой, уголовной, среде поэт чувствует себя своим, здесь его любят не за стихи, а просто за то, что он существует: “Here I am not loved for my voice, / I am loved for my existence only” [Там же]. Ср. у А. Камю: «С исчезновением осознанности и бунта улетучивается и абсурд» [5, с. 294].
Пока же остается защита в воспоминаниях, с которыми полностью связано творчество, ввиду чего всё еще имеет смысл теперешнее существование, несмотря на вполне абсурдные вариации прошедшего: «Я помню час, когда ногами нас / за буйство избивали демонстранты. / Ах, музыка, ах, розовые банты. / Но раньше было лучше, чем сейчас» («Я помню всё, хоть многое забыл…» (1999) [6, с. 427]). Еще один смысл сегодняшнего пребывания среди живых – это аспект потенциальной фиксации в вечности наследия поэта, выражаемый в лейтмотиве памятника (но, опять же, памятник чаще всего ставят после смерти): «Мы все лежим на площади Свердловска, / где памятник поставят только мне» [Там же]. Ныне же: «На комоде плюшевый мишутка, / стонет холодильник “Бирюса”. / Потому так скверно и так жутко, / что банальней выдумать нельзя» («Не жалей о прошлом, будь, что было…» (1998) [Там же, с. 374]). Абсурдность в банальности, серости и сентиментальной нелепости, здесь проиллюстрированной минимумом деталей, но смысл снова находится лишь в ожидании, в известной степени похожем на ожидание С. Беккета, но у Б. Б. Рыжего – не Годо, а ожидание конкретного – смерти, которая несет «светлое сиянье»: «Друг мой милый, я хочу заране / объявить: однажды я умру / на чужом продавленном диване, / головой болея поутру. / Если правда так оно и выйдет, / жаль, что изо всей семьи земной / только эта дура и увидит / светлое сиянье надо мной» [Там же]. Здесь уже заметен парадоксальный мотив сродни библейскому пониманию, разовью-щийся впоследствии в большинстве стихов 1999–2001-х гг. Б.Б. Рыжего, – отрицание смерти как конца всего вследствие принятия ее сути как некоего перехода, продолжения пути (ср. с приведенной выше цитатой из «Бесов» Ф. М. Достоевского).
Уход в абсурд творчества от абсурда действительности – один из главных экзистенциальных мотивов стихов Б.Б. Рыжего, коррелирующий с основным мотивом философии А. Камю [5], но у поэта реализующийся весьма самобытно.
Лишь отчасти можно согласиться с утверждением А. Г. Казанцева, что для лирического героя Б. Б. Рыжего «характерна амбивалентность. С одной стороны, лирический герой осознаёт себя поэтом, интеллектуалом, высокообразованным человеком, а с другой стороны, осознаёт себя хулиганом, который любит пить, драться и флиртовать со всеми женщинами, которые окружают его» [3]. Гораздо ближе к нашему пониманию концепция А. С. Бокарева, выявляющего принцип полифонии в субъектной организации поэтической системы Б. Б. Рыжего [1, с. 156]. Своеобразное воплощение они получают в стихотворении «Мой герой ускользает во тьму» (1998). Поэт и его герой здесь сливаются воедино, происходит отождествление субъекта и объекта. Специфичные для Б. Б. Рыжего лироэпические принципы соблюдены, стихотворение сюжетно, первые три строфы хронологичны и иллюстрируют общую поэтическую картину в соответствии с гегелевской триадой (тезис–ан-титезис–синтез). Тем не менее начало и конец стихотворения связаны напрямую ввиду композиционной закольцованности. Поэт «придумывает» героя, обусловливая данную необходимость, но герой с самого начала «ускользает во тьму. / Вслед за ним устремляются трое» [6, с. 369]. А. С. Бокарев отмечает сильную градацию ипостасей лирического субъекта и широту дистанции между ними и подчеркивает, что «автор и герой у Рыжего – единое целое» [1, с. 159], как становится понятным из последней строфы: «Слышу рев милицейской сирены, / нарезая по пустырям» [6, с. 369]. Происхождение «героя» напрямую связывается с его автором, который, с одной стороны, его «придумал» как лирического субъекта, а, с другой стороны, – это альтер эго поэта, заключающее в себе обе грани, выраженные в стихотворении («…русскую пил … / за чтением зренье садил…» и т. п. [Там же]). Право говорить о такой двойственности, полифоничности и одновременно единстве дает и знание биографии Б. Б. Рыжего (см.: [8], «Роттердамский дневник» поэта), характерной своей амбивалентностью, самого творчества, где постоянно подчеркивается такая неоднозначность. Исчезновение границ между стихотворением и реальностью, а как следствие, объектно-субъектное слияние и отмечается в финале стихотворения, когда автор соединяется с героем, который в начале стихотворения «ускользает во тьму <…> / <…> за ним устремляются трое» [6, с. 369], а в конце лирическое «он» становится лирическим «я», за которым «устремлялись» эти «трое» (именно Я «слышу рев милицейской сирены, / нарезая по пустырям» [Там же]. Потому очевидно заключение А. С. Бокарева: «Если граница между поэзией и действительностью исчезает, платой за свободу от героя и обретение подлинного “я” становится жизнь пишущего» [1, с. 159]. Если герой погибает, то погибает и поэт. Ключевые в философии абсурда А. Камю экзистенциальные категории смерти и самоубийства, осмысляемые в других стихотворениях Б. Б. Рыжего, с такой точки зрения приобретают особые когнитивную рецепцию, поэтическую семантику и тональность (об этом далее).
Упомянутые «трое» появляются и в других стихах Б.Б. Рыжего, надевая разные маски. Часто это, как и здесь, сотрудники милиции, олицетворяющие несправедливость и жестокость мира, искусственно заключенного в рамки абсурдного порядка (к примеру: «Меня обуют на мосту три ухаря из ППС» [6, с. 348] («Восьмидесятые-усатые…» (1998)). Но эти персонажи одновременно несут и оттенок «положительности», так как они тоже часть милого сердцу пространства, в котором обитает «земная шваль – бандиты и поэты» [Там же, с. 377] («Приобретут всеевропейский лоск…» (1998)) и существование которого продолжается в том числе благодаря не только тем и другим, но и третьим. К концу жизненного и творческого пути поэта все чаще «ангелы» ассоциируются с «ментами», «жлобами», «амбалами в троечках» и т. п., ввиду чего и «бог» приобретает характер «стража порядка в более высокой должности», главного тюремщика, «начальника», «основного» (кстати, в статье А. А. Семиной именно вследствие, видимо, весьма слабой ориентации в тюремном жаргоне в целом и поэтическом лексиконе самого поэта, был абсолютно неправильно интерпретирован сюжет одного из самых известных стихотворений – «Разговор с богом» (2001). Там слово «Основной» воспринимается исследователем не как обращение к «богу» (что следует из контекста и лексического содержания текста и по заглавной букве в слове), а как поясняющее одну из форм слова «любовь» [7, с. 164]). Ср. также: «…От одиночества, от злости, от обиды / на Самого, с которым будем квиты, – / не из любви» [6, с. 506] («Дай нищему на опохмелку денег…» (2000)). Есть здесь, опять-таки, третья сторона проблемы, когда сам поэт равен богу, сам поэт – это бог, и тогда одиночество воспринимается как тотальное, и «Разговор с богом» воспринимается как беседа с самим собой после самоубийства как самоубийства бога («– Господи это я мая второго дня…» [Там же, с. 518] (на второй день после самоубийства 7 мая)), и обижаться можно лишь на «Самого» себя и т. д. (ср.: «И я был богом и боксером, / а не поэтом» [Там же, с. 505] («А грустно было и уныло…» (2000); а также у И. Кормильцева (поэта свердловской рок-группы «Наутилус Помпилиус», которая не раз упоминается у Б. Б. Рыжего в «Роттердамском дневнике»): «И я понял детским сердцем, что это Бог / И он воплотился в боксера» («Боксер» (1989)).
В телезарисовке «Сентиментальное путешествие на Вторчермет» Б. Б. Рыжий сообщает: «Вот говорят: поэту нужна трагедия. Да трагедия поэта – в том, что он поэт. Вот и всё. Больше никаких трагедий у него не должно быть» (передача «Магический кристалл», реж. Э. Корнилова). В этой фразе поистине содержится первопричина всего остального, включая отношение к экзистенциальным областям жизни. Постоянное пребывание в пограничных ситуациях и состояниях (Б. Б. Рыжему довелось жить в переходную, кризисную эпоху; согласно автобиографическому мифу, ему нередко приходилось вращаться в кругах «деклассированных элементов», жизнь которых представляет собой перманентную пограничную ситуацию, аналогично жизни настоящего поэта; ему выпало потерять лучших друзей и т. д.) отражалось в стихах. А ввиду «слито-сти» субъекта и объекта (ср. понимание этого аспекта у И. А. Бродского и др.), поэта и лирического героя, все труднее и труднее становится понять не только читателю, но и самому автору, где грань между поэзией и реальностью. Здесь возникает вопрос тотальной честности поэта прежде всего перед самим собой: насколько окончательно он верен всему тому, о чем он говорит в своих стихах. Подобно погибшим десятилетием ранее поэтам А. Башлачеву и Я. Дягилевой (со второй этот срок практически точь-в-точь: Янка погибла в канун девятого мая 1991 г.) Б. Б. Рыжий взваливает на себя экзистенциальное бремя ответственности за человечество, абсурдное с точки зрения обывателя, и идет до конца («За всё, за всё. За то, что не могу, / чужое горе помня, жить красиво. / Я перед жизнью в тягостном долгу. / И только смерть щедра и молчалива» [6, с. 159] («Благодарю за всё, за тишину…» (1996)). Выбор самоубийства как способа отдать долг тем, кто уже погиб, в борьбе ли с абсурдностью, в водовороте ли нерешаемых проблем, – вот основной посыл последних стихов и, думается, главная причина такого выбора самого поэта. Когда уходят друзья, понявшие исключительную правильность такого выбора, добровольного ухода, – по Б.Б. Рыжему, нельзя, совестно и позорно оставаться в живых: «И вроде трубы не играли, / не обнимались, не рыдали, не раздавали ордена, протезы, звания, медали, / а жизнь, что жив, стыда полна?» [Там же, с. 500] («И вроде не было войны…» (2000)); «Перед кем вина? Перед тем, что жив. / И смеется, глядит в глаза. / И звучит с базара блатной мотив, / проясняются небеса» [Там же, с. 517] («Погадай мне, цыганка, на медный грош…» (2001). Просматривается двойная семантика использованного здесь оборота «вина <…> Перед тем, что жив» [Там же], то есть перед тем «субъектом» (назовем так условно), который жив априори, всегда. Это может быть демиург, бог, поэт в универсальном смысле (как творец), мальчик, оставшийся в идеальном мире детства, в итоге – Атман, Абсолют. Поэтому самоубийство – это способ покончить с нынешним воплощением, вызов себе сегодняшнему и магический переход далее. Это, возможно, единственный выбор до конца осознавших собственную природу («Отмотай-ка жизнь мою назад…» (2000), «Рубашка в клеточку, в полоску брючки…» (2000), «Не надо ничего…» (2000), «За обедом, блядь, рассказал Косой…» (2000–2001), «Мальчишкой в серой кепочке остаться…» (2001)).
В финальных стихотворениях приходит окончательная, по К. Ясперсу и А. Башлачеву, «бешеная ясность», обусловливая абсурдность дальнейшего существования (когда и «труд нелеп, и бестолкова праздность» (последний стих А. Башлачева после длительного «молчания» – «И труд нелеп, и бестолкова праздность…» (1988)): «Был я мальчик, было мне восемь лет, / ну от силы девять, и был я свят / и, вдыхая вешний, / мастерил скворешни. / А потом стал юношей, а потом – / дядей Борей в майке и с животом, / типа вас, Косого, / извини за слово» [Там же, с. 515] («За обедом, блядь, рассказал Косой…» (2000–2001)). По К. Ясперсу, необходимо, чтобы индивид в процессе «своей неустанной деятельности» возвышал свое бытие до вселенских масштабов (подобно богу-творцу; обусловливая свое богоподобие), а это возможно только при наличии «экзистенциального мышления». Именно вследствие такого осмысления человеком безусловности своего существования ему даруется откровение о смысле бытия. В центре его философии находится рецепция трансцендентности человеческой экзистенции, испытываемая как «бытие перед лицом смерти». Важнейшее значение здесь получает понятие пограничных ситуаций, в которых человеческое существование познает себя как нечто абсолютное. Движение от чистого бытия мира («сам Man») к самобытию (самости) приводит к освобождению настоящего, считает К. Ясперс [9].
Поэзия Б.Б. Рыжего, как мы увидели, обращена к глубинным пластам человеческого сознания, в том числе через категорию абсурда, проявленную в ней в своих экзистенциальных формах. В рассмотренных стихах модифицируется философия Ясперса, где экзистенция преобразуется в трансценденцию, означающую преодоление границ между видимым миром и невидимым, маркирующими пределы имманентного опыта. Этот опыт достигается путем восхождения по трем ступеням трасценденции (переход от мыслимого к немыслимому; постижение ясности по отношению к трансценденции; высшая степень экзистенциального прояснения, связанная со способностью чтения шифра). Представленные три ступени можно рассматривать как фазы понимания абсурдного текста, открывающего впоследствии и понимание транс-ценденции мироздания и бытия («Свернул трамвай на улицу Титова…» (2000) и др.).
Многомотивность лирики Б. Б. Рыжего обусловлена его внутренней трагедией, – в первую очередь тем, что он поэт. Это также определило, на наш взгляд, и внешние обстоятельства его жизни, представляющие собой, особенно перед ее печальным финалом, череду сменяющих друг друга тяжелых пограничных ситуаций, сопряженных с сильнейшими ударами судьбы, следовавшими цепью. Всё закончилось известно чем, но, думается, то, что Б. Б. Рыжий успел сделать в стихах и прозе, отрицает его экзистенциальный выбор и давно констатирует его бессмертие.
В заключение представляем серию выводов.
-
1. Раскрытие алогизма жизни, социального, экзистенциального и онтологического абсурда – один из преобладающих принципов поэзии Б. Б. Рыжего. Постижение онтологической трагичности не превращается в концепцию отчужденности при рецепции окружающего, наоборот, специфика жизненных условий, восприятие фундаментальных основ бытия приводит к экзистенциальному абсурдному бунту (по А. Камю [5]), к осознанию ответственности не только за себя, но за других, шире – за всё человечество («Ордена и аксельбанты»), а также за обнаруженную бытийную истину, что порождает рефлексию о смысле собственного существования, а
именно, о необходимости, важности совершения поступка, действия («Что махновцы – вошли красиво…» (1998)). Однако, исследуя экзистенциализм и онтологию абсурда, Б.Б. Рыжий почти не выходит за рамки реалистической поэтики (если не считать прецедентности, аллюзивности его стихов), то есть практически не обращается к использованию приемов и методов, свойственных абсурдистике в целом (среди характерных для литературы абсурда применяемых приемов – сюжетные повторы, реализующие, помимо традиционных для абсурдистики способов разрыва шаблонов, снятия автоматизма восприятия жизни, аспект метафизической, онтологической повторяемости жизненных событий, их глубинной цикличности) («Свернул трамвай на улицу Титова…» (2000), («За обедом, блядь, рассказал Косой…» (2000–2001), «Отмотай-ка жизнь мою назад…» (2000)).
-
2. Эстетический спектр поэзии Б. Б. Рыжего эксплицирует усиление порождаемого пониманием онтологического абсурда чувства трансцендентального одиночества лирического субъекта, который несет в себе практически все характерные черты самого поэта, вплоть до отождествления одного и другого. Субъективная картина мира у Б. Б. Рыжего оформляется сквозь призму понимания его абсурдности и в то же время расслаивается на сегменты, связанные с различными мирами, ассоциирующимися с определенными людьми, близкими поэту и его герою и защищающими их от этой абсурдности:
– это бандиты (шпана, хулиганы и пр.), сопоставляемые с поэтами в силу своего изгойства и неспособности вписаться в социум прежде всего из-за острого чувства свободы и нежелания жить по лекалу и чьей-то указке;
– это сами поэты, явно и неявно возникающие в его стихотворениях, – в число «явных» входят и знаменитости, причем разновременные (К. Д. Батюшков, Н. А. Некрасов, И. А. Бродский, Е. Б. Рейн, Е. А. Евтушенко, А. Еременко и др.), и друзья-поэты Р. Тягунов, О. Дозморов, Д. Рябоконь; число «неявных» множится до бесконечности;
– это простые люди, ведущие правильный, с точки зрения лирического субъекта, честный образ жизни, часто соседи (как в 1980-х гг. – некоем идеальном локусе детства – двора лирического героя, так и в 1990-х – в нарождающемся поле «чистогана», наживы), хотя и образы бандитов предстают в стихах окутанными романтическим ореолом «правильных» людей («Приобретут всеевропейский лоск…» (1998), «Лысов Евгений похоронен…» (1998) и др.), как и некоторые «менты» («А участковый милиционер / Снимал фуражку и садился рядом / И пил вино, поскольку не был гадом / Восьмидесятый год, СССР» [6, с. 323];
– это и семья поэта-персонажа: отец, мать, жена, сын.
-
3. Абсурдное время у Б. Б. Рыжего понимается как повторяемость, при этом оно циклично (к примеру: «Ничего не будет, только эта песня…» (1998)). Вслед за пространственной и образной разграниченностью у Б. Б. Рыжего оно, как правило, также разделено: ретроспективное время, эксплицирующее изменение форм осмысления действительности; биографическое время, которое выражается изначально как кризисное; реальное время, развертывающееся как движение к смерти, причем движение возвратное. Утверждение онтологического абсурда вносит дисгармонию в бытийные сферы, причем дисгармония эта усугубляется осознанием собственной вины за такое положение вещей, в частности, вины перед ушедшими друзьями, вплоть до испытывания стыда за то, что сам остался в живых. Поэтому время выступает также в двух дополнительных регистрах: время рождения вины и как конфигурация протеста против энтропии.
-
4. Нелинейность времени ощущается лирическим субъектом согласно метафизическим законам. Соответственно времени трансформируется пространство, основной характеристикой которого становится его «сдвинутость» или «смещенность», вследствие чего обнаруживаются пространственные слои, функционирующие как типы реальности. Выделяются объективная, социальная, природная, экзистенциальная, трансцендентальная реальности, реальность воспоминаний. Реализация сдвинутого пространства происходит путем замещения конкретного сегмента
абстрактным (к примеру, сегмент воспоминаний). При этом сдвиг пространства не редуцирует фактической действительности, а доказывает онтологическую мобильность, бытийное непостоянство. Взаимная проницаемость пространств влечет деконструкцию иерархической системы, что иллюстрируется, к примеру, частотностью мысленных свободных, иногда бесцеремонных, диалогов с богом («Разговор с богом» (2001)). Зная об абсурде бытия, лирический субъект ищет внешних, сверхличностных связей, в то же время приближаясь к осознанию бога внутри вселенной, а не вне ее. Б.Б. Рыжий в конце творческого пути подходит к пониманию релятивности попыток преодоления экзистенциальной бессмысленности даже с помощью творчества («музыка вырубается, как музыкант ни старается…» [6, с. 513]), не говоря уже о помощи «другого» (Ж. Лакан), кем бы он ни был – другом, близким и пр. («Погадай мне, цыганка, на медный грош…» (2001)) или трансцендентной помощи (тем более что ощущение такой возможности пропадает вследствие понимания реальности как наполняемой пустоты). В итоге всё приобретает значение относительности, смысл чего-либо, в том числе продолжения чего-либо, девальвируется; действительность, воссоздающая лишенные смысла маркеры, иллюстрирует лишь онтологическую и экзистенциальную зыбь, поэта / лирического субъекта поглощает ощущение распада мироздания. Остается только понимание времени как приближения к смерти – последнему прибежищу смысла.
Лирический герой чаще всего принадлежит реальному времени (но многократно погружается в воспоминания и пр.). Включенность нарратора в ведущий сюжет и одновременно оторванность от него рождает чаще всего светлую грусть или горечь, за счет чего вскрываются дефекты моделей действительности, пропагандируемые цивилизацией как подлинные («Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей…» (1999), «Что махновцы – вошли красиво…» (1998)). Абсурдность существования характерна для искусственно упорядоченного мира взрослых, где нет места естественному, настоящему, – герой уходит от него в детство, в творчество (которое по достоинству будет оценено уже после всего), в смерть. «Этика» обессмысленного мира выражается в необходимости пребывания в нем, но лишь созданный самим поэтом / лирическим субъектом сюжет о мире в обстановке осознания бесплодности усилий борьбы с абсурдом оказывается методом существования в нем. Ближе к завершению жизненного и творческого пути поэта в его стихах начинает преобладать атмосфера бескрайнего мрака, отражающая его абсолютное одиночество и тоску, где все ненужно и все чужие («Станет сын чужим и чужой жена, отвернутся друзья-враги…» [6, с. 517]), хотя он прекрасно осознает непрерывность коловращения жизни с возможностью повторения того, что было.
Об авторе:
МЕРКУШОВ Станислав Федорович – кандидат филологических наук, главный специалист Центра русского языка и культуры Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: stas2305@gmail. com.
About the author:
Список литературы Экзистенциальный абсурд в творчестве Б.Б. Рыжего: смертельный эксодус
- Бокарев А.С. Структура авторского "я" в поэзии Бориса Рыжего // Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 4. С. 156-159.
- Достоевский Ф. М. Собр. сочинений: в 10 т. Т. 7: Бесы. М.: Худож. лит., 1957. 759 с.
- Казанцев А.В. Саморефлексия в поэзии Б. Б. Рыжего: варианты реализации [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. №9 (17). URL: www.sisp.nkras.ru (дата обращения: 06.04.2018).
- Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
- Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 222-318.
- Рыжий Б. В кварталах дальних и печальных. М.: Искусство - XXI век, 2017. 576 с.
- Семина А.А. Поэтика застывшего мгновения в стихотворениях Георгия Иванова и Бориса Рыжего // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 4 (30). С. 161-165.
- Фаликов И. Борис Рыжий. Дивий камень. М.: Молодая гвардия, 2015. 384 с.
- Ясперс К. Философия: в трех книгах. Книга третья: Метафизика. М.: Канон+, 2012. 296 с.