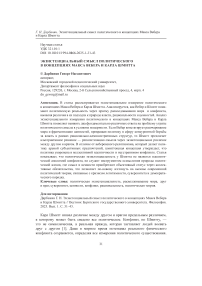Экзистенциальный смысл политического в концепции Макса Вебера и Карла Шмитта
Автор: Дарбинян Г.Н.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается экзистенциальное измерение политического в концепциях Макса Вебера и Карла Шмитта. Анализируется, как Вебер и Шмитт понимают политическую реальность через призму расколдовывания мира и конфликта, выявляя различия в их подходах к природе власти, рациональности и ценностей. Анализ экзистенциального измерения политического в концепциях Макса Вебера и Карла Шмитта позволяет выявить два фундаментально различных ответа на проблему утраты политического смысла в условиях модерности. Если Вебер констатирует разочарование мира и фрагментацию ценностей, превращая политику в сферу конкурентной борьбы за власть в рамках рационально-административных структур, то Шмитт предлагает альтернативное решение - реполитизацию смысла через экзистенциальное различие между другом и врагом. В отличие от веберовского релятивизма, который делает политику ареной субъективных предпочтений, шмиттовская концепция утверждает, что политика укоренена в коллективной идентичности и неустранимом конфликте. Статья показывает, что политическая экзистенциальность у Шмитта не является идеологической апологией конфликта, но служит инструментом осмысления природы политической жизни, где смысл и ценности приобретают объективный статус через коллективные обязательства, что позволяет по-новому взглянуть на вызовы современной политической теории, связанные с кризисом легитимности, суверенитета и демократического порядка.
Политическая экзистенциальность, расколдовывание мира, друг и враг, суверенитет, ценности, конфликт, рациональность, политическая теория
Короткий адрес: https://sciup.org/148331670
IDR: 148331670 | УДК: 321.01:1 | DOI: 10.18101/1994-0866-2025-1-31-43
Текст научной статьи Экзистенциальный смысл политического в концепции Макса Вебера и Карла Шмитта
Дарбинян Г. Н. Экзистенциальный смысл политического в концепциях Макса Вебера и Карла Шмитта // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 1. С. 31–43.
Карл Шмитт назвал различие между другом и врагом предельным различием, к которому может быть сведено все политическое. Конфликт, по Шмитту, — это не символическая, а реальная вражда, которая заставляет людей воевать друг с другом [1]. Даже в мирное время потенциал реального физического конфликта сохраняется, определяя все измерения политического существования.
Суверенитет, государство, международное право и даже декларации о нейтралитете не могут быть полностью поняты, если не принимать во внимание их обоснование исключительной возможностью войны. Шмитт интерпретирует политическую жизнь как изначально конфликтную в терминах сообществ: в войну вступают коллективы, а не индивиды. При этом Шмитт не дает никаких моральных, экономических или иных объективных критериев, по которым можно было бы определить эти коллективы. Сами партии определяют, кто является их врагом. Он пишет лишь о том, что для того чтобы кто-то был врагом, достаточно, чтобы другой был «экзистенциально другим». Эта ссылка на существование как основу для определения врага намекает на более глубокий слой политики — тот, который не поддается чисто рациональному или научному объяснению. Ссылки Шмитта на экзистенциальное не просто демонстрируют идеологическую позицию, а скорее, подчеркивают жизненно важный аспект политического бытия. Бёкенфёрде считает, что, аналогизируя экзистенциальность с ролью рациональности в науке, можно увидеть, как ценности и смыслы, которые часто считаются «частными» или «субъективными» в современных разочарованных обществах, принимают публичную и интерсубъективную форму в политической жизни, такая интерпретация перекликается с тезисом Макса Вебера о расколдовывании мира, согласно которому расчетливый рационализм современности лишает ценности объективных оснований и тем самым ограничивает их областью вечной борьбы [2]. В отличие от Вебера Шмитт, вводя понятие вражды, фактически «омолаживает» публичную сферу, превращая ценности и смысл в ставки политического конфликта.
Карл Шмитт определяет политическое через экзистенциальное различие между другом и врагом, подчеркивая, что это противостояние не зависит от государства и не укладывается в рамки моральных, экономических или эстетических категорий, существовавших ранее. В отличие от традиционных взглядов, которые связывают политику исключительно с государственными делами, Шмитт утверждает, что политическое не ограничено институциональной сферой. Оно возникает всякий раз, когда человеческие сообщества вовлекаются в конфликт такой интенсивности, что приводит к разделению на противостоящие друг другу коллективы. Государство само по себе не является основой политического, а скорее его проявлением, предполагающим лежащее в основе различие между другом и врагом. Не рассматривая политическое как отдельную сферу с собственным предметным содержанием, Шмитт определяет его как структурирующий принцип, который может возникнуть в любой области человеческой жизни, включая культуру, экономику и религию. Политическая вражда не основана на моральной оппозиции или экономической конкуренции; это вопрос экзистенциальной дифференциации.
Политический враг — это не обязательно зло или вред в каком-либо этическом или утилитарном смысле, это просто тот, чье существование воспринимается как несовместимое с собственным [3]. Экзистенциальный характер вражды означает, что никакие внешние рациональные или объективные критерии не могут определить, когда та или иная группа является политическим врагом; только само политическое сообщество благодаря своему собственному экзистенциальному участию, может сделать это определение [4]. Аргумент Шмитта не просто отражает веберовское различие между отдельными ценностными сферами, но, напротив, бросает ему вызов. Если Вебер представляет различные сферы, например, мораль, искусство и экономику, как независимые [5], то в концепции Шмитта политическое — это не сфера, а степень интенсивности конфликта, которая может превзойти любую другую сферу [1], что делает политическое пустой категорией с точки зрения содержания, поскольку оно определяется исключительно наличием экзистенциальной оппозиции, а не какими-либо фиксированными содержательными принципами [6]. Любой вопрос может стать политическим, если он приобретает динамику «друг — враг», а когда это происходит, он перестает быть чисто экономическим, религиозным или культурным, превращаясь в предмет коллективной борьбы.
Экзистенциальная природа политического наиболее ярко проявляется в возможности войны, которая служит крайним воплощением вражды. Шмитт не утверждает, что война всегда необходима или желательна, но он доказывает, что именно ее возможность придает различию между другом и врагом его определяющий характер. Политическое — это не стремление к конфликту, а признание того, что потенциал физической борьбы является неотъемлемой частью человеческой ассоциации. Война не является целью политики, но она лежит в ее основе, раскрывая ставки экзистенциальной дифференциации [7].
Поскольку политическое не сводится к рациональному расчету или универсальным моральным нормам, подход Шмитта поднимает вопрос о том, представляет ли его аргумент описательный анализ политической реальности или идеологическую позицию, одобряющую конфликт. Ричард Волин критикует Шмитта, формулируя его аргументы как «политический экзистенциализм», полагая, что экзистенциальная терминология Шмитта отражает скорее виталистскую и идеологическую приверженность конфликту, нежели нейтральное наблюдение за политической жизнью [3]. Однако мы считаем, что экзистенциальный подход Шмитта не навязывает нормативное предпочтение конфликту, а, напротив, раскрывает фундаментальную структуру самого политического. Различие между другом и врагом — это не идеологический конструкт, а основной элемент политического существования, который действует независимо от моральных или рациональных оправданий.
Политическая экзистенциальность в отличие от политического экзистенциализма обозначает фундаментальный аспект политической реальности, заключающийся в том, что политические сообщества формируют свою идентичность через противопоставление воспринимаемым угрозам. Разделения не являются объективно установленными внешними наблюдателями, а определяются самими сообществами. Экзистенциальная основа политического не обязательно оправдывает вражду или войну, но она показывает, что политическая жизнь не может быть полностью понята только через рационалистические или моральные рамки. Напротив, она коренится в живом опыте коллективной дифференциации и постоянно присутствующем потенциале экзистенциального конфликта [6].
В «Концепции политического» Шмитт рассматривает вражду не как моральную или идеологическую категорию, а как экзистенциальный принцип, лежащий в основе политического. Он подчеркивает, что война не является целью политики, но остается ее постоянно присутствующей возможностью. Однако его более поздние работы, в частности Ex Captivitate Salus, предполагают, что вражда имеет более глубокое значение, выходящее за рамки простого политического анализа, намекая на более личную или даже метафизическую интерпретацию врага как фундаментального вопроса существования [8]. Некоторые ученые, например Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде, защищают Шмитта от обвинений в том, что он выступал за конфликт как суть политики, утверждая, что его различие между другом и врагом — это скорее методологический инструмент, чем политическая программа [2]. Другие, такие как Ричард Волин [3] и Уильям Шойерман [9], рассматривают работу Шмитта как идеологически мотивированную, с логической преемственностью между его теоретическими рамками и его последующей поддержкой национал-социализма. Волин утверждает, что концепция политического у Шмитта не просто описательная схема, а сформированная идеологическая приверженность тому, что он называет «политическим экзистенциализмом». По мнению Волина, акцент Шмитта на экзистенциальном различии между другом и врагом и исключительном характере политических решений отражает идеологическую позицию, уходящую корнями в виталистский и антирационалистический интеллектуальный климат Веймарской Германии [3]. Предлагая различие между «политическим экзистенциализмом», как его формулирует Волин, и «политической экзистенциальностью» как описательной категорией политического анализа, он сводит метод Шмитта к идеологическому проекту, аргументация здесь предполагает, что использование Шмиттом экзистенциального языка следует понимать как попытку сформулировать фундаментальный аспект политического опыта, а не как одобрение конфликта в качестве нормативного блага [3]. Определяя экзистенцию как основу политического, Волин выделяет важнейший элемент мысли Шмитта, но его настойчивое стремление привязать его к определенной культурной и интеллектуальной традиции в конечном итоге искажает более широкие последствия работы Шмитта [3].
Использование Шмиттом экзистенциальной терминологии можно рассматривать не как сигнал об иррационалистической идеологии, а как попытку описать условия, в которых возникает и поддерживается политический порядок. Однако экзистенциальный анализ Шмитта не отрицает возможность нормативности в политике, а, напротив, выявляет основополагающую политическую реальность — политическую экзистенцию — как контекст, в котором формируются и защищаются нормативные обязательства.
Важно также понять позицию Макса Вебера, который отрицал экзистенциальный смысл в политическом бытии. Разочарование, согласно Веберу, означает постепенный процесс, в ходе которого рационализация и научный прогресс лишили мир его магической, религиозной и метафизической значимости [5]. Процесс разворачивался в два основных этапа: во-первых, сама религия разочаровывала мир посредством внутренней рационализации (кульминацией которой стал протестантизм), а во-вторых, наука разочаровывала религию, делая несостоятельными ее претензии на объективную истину. Анализ, проведенный Вебером в книге «Наука как призвание», определяет современную науку как высокоспециализированную и прогрессивную дисциплину, которая процветает благодаря постоянному развитию. В отличие от искусства, которое сохраняет свою значимость с течением времени, научные достижения постоянно заменяются, делая старые знания устаревшими [10]. Однако процесс рационализации, характерный для современности, влечет за собой не рост индивидуального знания, а растущую уверенность в просчитываемости и контролируемости мира. Эту трансформацию Вебер называет разочарованием: замена таинственных, непредсказуемых сил системой рациональной предсказуемости [5].
Центральным следствием этого процесса является утрата смысла в мире, где доминирует научная рациональность. Наука, по Веберу, ценностно нейтральна; она может объяснить, как манипулировать реальностью с помощью технологий, но не может объяснить, почему такой контроль желателен или значим. В отличие от более ранних форм рациональности, которые служили религиозным целям и могли вместить конечный смысл, современная научная рациональность исключает вопросы смысла и ценностей, переводя их в сферу иррационального [5]. Смысл, который когда-то рассматривался как неотъемлемая часть космоса в религиозных мировоззрениях, теперь вытесняется в субъективную и частную сферу, что приводит к неразрешимому противоречию между научной объективностью и человеческой потребностью в экзистенциальной значимости. Утрата объективного основания для ценностей имеет глубокие последствия для политической сферы, которая традиционно опиралась на общие метафизические или религиозные обоснования власти и порядка. Сопоставляя веберовский тезис о разочаровании со шмиттовским пониманием политического, мы стремимся осветить концепцию политической экзистенциальности — категорию, которая может объяснить, как политические сообщества сохраняют смысл в разочарованном мире. Противоречие между научной рационализацией и экзистенциальным смыслом становится ключевым вопросом в понимании современной политического бытия.
Разочарование — процесс, в ходе которого наука вытеснила религию и метафизический смысл, — привело к приватизации ценностей, сделав их субъективными и не поддающимися научному или рациональному обоснованию. Наука может объяснить, как устроен мир, но она не может определить, какими ценностями должен руководствоваться человек в своих действиях. В результате современность характеризуется «политеистической борьбой» конкурирующих, непримиримых систем ценностей, ни одна из которых не может претендовать на объективное превосходство. Поскольку ценности больше не основываются на универсальных религиозных или метафизических истинах, политика становится ареной столкновения этих субъективных ценностей. Этот конфликт не может быть разрешен рациональными средствами, поскольку научная рациональность безразлична к вопросу о том, какие ценности являются «истинными». Следовательно, политическая жизнь по своей сути конфликтна и отражает борьбу между различными мировоззрениями, а не стремление к высшей морали или рациональному порядку. Однако этот конфликт можно смягчить с помощью того, что Вебер называет этикой ответственности, которую он противопоставляет этике убеждений [5]. В то время как этика убеждений жестко придерживается абсолютных моральных принципов, политик, действующий в соответствии с этикой ответственности, должен учитывать последствия своих действий и ориентироваться в противоречиях между конкурирующими ценностями. Политика в этом смысле — не личное спасение, а прагматичное взаимодействие с реалиями власти и управления.
Тезис о разочаровании Вебера также формирует его определение государства, которое он характеризует не по его целям или идеологическому содержанию, а по его монополии на легитимное насилие. В отличие от досовременных государств, которые часто были привязаны к религиозным или метафизическим обоснованиям, современное государство — это нейтральный инструмент власти, который может служить любой идеологической или политической цели. Радикальный отход от традиционных представлений о государстве, поскольку он устраняет телеологию из политического анализа и вместо этого определяет государство исключительно с точки зрения его средств — способности применять силу [11]. В результате политические акторы сталкиваются с этической дилеммой, поскольку взаимодействие с государством подразумевает работу с его принудительной силой. Конфронтация с «дьявольской силой» государства требует балансирования между идеологическими обязательствами и прагматическими требованиями управления.
Вебер понимает политику как ценностно-нейтральную и реалистичную структуру, в которой политика определяется борьбой за власть в рамках государства, а не какими-либо присущими ему моральными или идеологическими целями [12]. Однако она также подчеркивает последствия расколдовывания: в то время как наука лишила мир магического и религиозного смысла, она также оставила политику в качестве основной области, где ценности утверждаются и оспариваются, что привело к неразрешимому напряжению между рациональным управлением и экзистенциальным смыслом. Шмитт оспаривает представление о том, что политика может быть чисто формальной, и вместо этого настаивает на том, что политическое должно пониматься в терминах экзистенциальных конфликтов, определяющих коллективную идентичность и порядок.
Согласно Маккормику различие между другом и врагом у Шмитта функционирует как форма перевоплощения в расколдованноммире, возвращая смысл в политическую жизнь [13]. Однако вместо того, чтобы предлагать возврат к метафизическим основам эпохи модерна, Шмитт предлагает специфически политическое обоснование смысла и ценностей, отличное от универсальных или трансцендентальных претензий религиозных или философских традиций. Следовательно, это перевоплощение ограничено политической сферой — оно не стремится вернуть смысл миру в целом, а наделяет политику экзистенциальной значимостью после того, как она была лишена существенного содержания в результате современной рационализации.
Как считает Маккормик, ключевое различие между Вебером и Шмиттом заключается в их концепции политического и его отношений с государством. Политическая социология Вебера определяет государство эмпирически исходя из его монополии на легитимное насилие, а не из какого-либо внутреннего предназначения [14]. Для Вебера государство — это нейтральный инструмент, средство, используемое политиками для реализации своих субъективных ценностей. Шмитт, напротив, отличает политику от государства и рассматривает первое как сущностное явление, укорененное в экзистенциальном различии между другом и врагом. Этот сдвиг позволяет Шмитту обойти веберовское нетелеологическое определение государства, поскольку политическое предшествует государству и придает ему смысл. Если Вебер рассматривает политический конфликт как результат борьбы между непримиримыми системами ценностей в расколдованном мире, то Шмитт переосмысливает конфликт как экзистенциальную основу самой политической идентичности.
Шмиттовская концепция политического функционирует как ответ на кризис смысла, выявленный Вебером. Если Вебер рассматривал политику как арену конкурирующих, в конечном счете, субъективных систем ценностей, то Шмитт закрепляет политическое в экзистенциальной дифференциации, делая вражду определяющей чертой политической жизни.
Вебер и Шмитт признают ограниченность рациональности — Вебер видит ее в политеизме ценностей, а Шмитт в экзистенциальном различии между другом и врагом, они различаются в том, как реагируют на этот кризис. Вебер принимает фрагментацию ценностей как крайнюю черту современности, что приводит к видению политики как прагматичной борьбы за власть в рамках лишенного субстанций государственного аппарата. Шмитт, с другой стороны, отвергает чисто техническую и экономическую рациональность и стремится наполнить политику существенным смыслом через понятие политической идеи.
Ранняя работа Шмитта «Римский католицизм и политическая форма» иллюстрирует его критику технологического рационализма и предпочтение формы рациональности, которая остается привязанной к политическому этосу [15]. Он противопоставляет содержательную рациональность католической церкви, которая черпает свой авторитет из представления высшей идеи, пустому формализму современной бюрократической и экономико-технической рациональности. По мнению Шмитта, политическая система не может выжить на одной лишь технике; ей необходим авторитет, который, в свою очередь, зависит от веры в политическую идею. Этот аргумент распространяется и на его критику современного государства, как его представлял Вебер. В то время, как Вебер описывает государство как нейтральный инструмент управления, Шмитт считает, что оно теряет свою основу, когда становится чисто процедурным и техническим, в конечном счете поддаваясь фрагментации и распаду. Если Вебер смиряется с политеизмом ценностей и формальной, процедурной природой современной политики, то Шмитт настаивает на том, что политика не может быть сведена к администрированию и рациональному расчету. Отличая политическое от государства, Шмитт предлагает возродить политическое, не восстанавливая метафизические основы, а обосновывая политическую жизнь экзистенциальными обязательствами, которые придают ей содержание и смысл, выходящие за рамки простого технического управления.
Шмитт развивает критику инструменталистского взгляда Вебера на государство, подчеркивая роль политической идеи в обосновании политического авторитета и значения. В то время, как Вебер определяет государство через его монополию на легитимное насилие, Шмитт настаивает на том, что государство должно быть понято в связи с коллективной политической идентичностью, которая ему предшествует. Идентичность формируется экзистенциальными обязательствами, которые Шмитт концептуализирует через различие между другом и врагом [16]. В отличие от Вебера, который рассматривает политический конфликт как следствие соперничества индивидуальных систем ценностей, Шмитт выводит конфликт за рамки, представляя его как борьбу между общественными коллективами, связанными общей политической идеей [17].
Ранний анализ Шмиттом мифа и этоса служит предшественником его более позднего разграничения между политическим и государственным. Политическая идея в его понимании представляет собой не конкретную идеологическую доктрину, а предпосылку для существования политического народа. Смысл политического по своей природе коллективен, и его легитимность проистекает из публичных проявлений единства и вражды, а не из абстрактного плюрализма субъективных ценностей, который описывает Вебер. Отказ Шмитта от индивидуализма либерализма вытекает из этой логики: либерализм, отдавая приоритет индивидуальной автономии, не может дать объединяющей политической идеи, способной поддержать коллективное политическое существование. Понятие политической экзистенциальности вводится как локус смысла в общественном домене, который требует индивидуального самопожертвования ради коллективной идентичности. В отличие от субъективного смысла, который остается частным и фрагментарным в расколдованноммире, политическая экзистенциальность выходит за пределы индивидуального опыта, формируя основу для ценностей и норм на уровне общества.
В работе «Три типа юридической мысли» Шмитт проводит различие между нормативизмом, децизионизмом и мышлением конкретного порядка, утверждая, что правовые нормы не являются самодостаточными, а черпают свое значение из лежащего в их основе политического и социального порядка [18]. Конкретный порядок предшествует позитивным правовым нормам и легитимирует их, а это значит, что право и управление не могут быть сведены только к процедурной рациональности. В отличие от веберовского взгляда на современную политику как на бюрократический механизм, посредничающий между конкурирующими ценностями, Шмитт вновь привносит смысл в политическое, укореняя его в экзистенциальной борьбе. Формулируя политическое как неустранимый конфликт между конкретными порядками, Шмитт отвергает деполитизированное, технократическое видение управления, характерное для расколдованного мира. Не позволяя сводить политику к государственной бюрократии, Шмитт настаивает на том, что политическая власть должна быть основана на экзистенциальных обязательствах, которые, в свою очередь, формируют и поддерживают правовые и нормативные структуры.
Если Вебер считает, что расколдовывание мираведет к постоянной и непримиримой борьбе субъективных ценностей, то Шмитт возвращает политическое значение через коллективные экзистенциальные обязательства, тем самым заново очаровывая политическое в отличие от религиозного или метафизического очарования. Ключевым элементом этого аргумента является теория Шмитта о конкретном порядке, которая противопоставляется нормативизму и юридическому позитивизму (в том виде, в котором они были разработаны Кельзеном). Шмитт утверждает, что нормы не создают порядок, а порядок предшествует нормам — политические нормы черпают свою легитимность из уже существующего политического коллектива. Эта интерпретация находит поддержку в последних исследованиях, которые оспаривают идею о том, что переход Шмитта от децизионизма к институционализму был просто оппортунистическим. Напротив, его конкретно порядковое мышление представляет собой логическое продолжение его ранней экзистенциалистской политической теории, решая проблему политического единства, которую не мог решить только децизионизм.
Обосновывая смысл и ценности в политическом бытии, а не в абстрактных моральных или рациональных принципах, Шмитт напрямую бросает вызов веберовскому представлению о ценностях как о фундаментально частных и субъективных. Отказ Шмитта от ценностного нормативизма достигает кульминации в его критике философии ценностей двадцатого века, которую он рассматривает как нигилистическую позитивистскую замену метафизики. В отличие от Вебера, который принимает постоянный конфликт ценностей как определяющее условие современности, Шмитт интерпретирует это условие пессимистично, он сравнивает его с природным состоянием Гоббса, утверждая, что мир, в котором индивиды автономно «устанавливают» ценности, нежизнеспособен. Шмитт отвечает на эту веберовскую борьбу богов реполитизацией ценностей, делая их коллективно обязательными, а не индивидуально избранными. Если Вебер рассматривает эпоху расколдовываниякак конец идеологического единства, ведущий к светскому политеизму, то Шмитт видит в этой фрагментации отправную точку для политики, которую он концептуализирует как высшую силу, способную структурировать коллективное существование. Подобно тому, как «Левиафан» Гоббса разрешает войну всех против всех, Шмитт утверждает, что политическое единство может преодолеть политеизм ценностей не путем возвращения к метафизике, а путем превращения политической экзистенциальности в основу коллективного смысла.
Шмиттовское перевоплощение политического не пытается восстановить универсальные истины, а переопределяет смысл и ценность в терминах коллективной политической борьбы. В отличие от веберовского признания неразрешимого плюрализма субъективных ценностей Шмитт настаивает на том, что политическое единство остается возможным, но только через публичную, экзистенциальную приверженность общей политической идентичности, выраженной через различие между другом и врагом. Политическое становится последней оставшейся областью существенного смысла в расколдованноммире, предлагая структурированную альтернативу веберианскому релятивизму и хаотичной конкуренции индивидуальных систем ценностей.
Шмитт отвергает как субъективистскую концепцию ценностей Вебера, в которой ценности индивидуальны и несводимы к объективному порядку, так и объективистские попытки преодолеть субъективизм, предпринятые философами Николаем Гартманом и Максом Шелером. Его аргумент заключается в том, что ценности не существуют сами по себе, а лишь «удерживают» бытие, что делает их зависимыми от акта их реализации конкретными группами людей. Однако этот процесс порождает конфликт, поскольку реализация ценности одной группы автоматически означает противостояние другой группе, отстаивающей противоположную ценность. Шмитт показывает, что логика борьбы встроена в саму природу ценностей: стремление к объективности не устраняет конфликт, а лишь придает ему идеологический характер, вооружая субъективные ценности претензией на объективную истину.
Шмиттовская альтернатива основана на экзистенциальном различии между другом и врагом, которое представляет собой не просто политический конфликт, но и борьбу за смысл и ценности. В мире, где ценности утратили универсальный характер и стали ареной вечного столкновения (по Веберу), Шмитт предлагает переочарование политики, в котором смысл и ценности обретают реальность через политическое единство перед лицом врага. Таким образом, он отвечает на «пустоту смысла» эпохи расколдовывания, создавая новый порядок, основанный на коллективной политической идентичности.
Интересной является финальная часть текста, где рассматривается возможность эстетизации политики в шмиттовском мышлении. Панайотис Кондилис, анализируя последствия механизации мира, указывает, что наряду с рационализированным миром науки возник второй, эстетизированный мир, в котором вопросы смысла решаются через красоту природы, что объясняет появление романтизма как ответной реакции на триумф сциентизма. Аналогично этому можно ли считать шмиттовскую концепцию политического своего рода романтическим поиском смысла в иррациональной реальности конфликта? Если эстетизация природы стала способом преодоления кризиса смысла после секуляризации, то, возможно, Шмитт «эстетизировал» политику, превращая конфликт в главный источник значимости и коллективного опыта в рационализированном мире.
Таким образом, Шмитт бросает вызов универсалистским и рационалистическим подходам, которые стремятся обосновать политику на абстрактных принципах, таких как мораль или разум. Вместо этого он утверждает, что политические сообщества имеют экзистенциальное основание: их легитимность и внутреннее единство проистекают из коллективной идентичности и различия между другом и врагом, а не из рациональных норм или универсальных ценностей. Поместив Шмитта в диалог с тезисом о расколдованноммире Макса Вебера, статья разъясняет, что концепция политического у Шмитта — это попытка противостоять политическим последствиям расколдовывания. Вебер описывает современный мир как характеризующийся отделением научной рациональности от ценностей, в результате чего ценности становятся фрагментированными, субъективными и в конечном итоге приватизированными. Шмитт реагирует на это состояние политизацией смысла и ценностей, превращая их из индивидуальной борьбы в коллективные, экзистенциальные обязательства. Для Шмитта смысл и ценности — это не рациональные конструкции или индивидуальный выбор, а надындивидуальные общественные реальности, которые обретают форму в экзистенциальном единстве политического народа. Мысль Шмитта представляет собой перевоплощение политического, но не в метафизическом или универсалистском смысле, а путем восстановления публичной природы смыслов и ценностей в политической сфере.
Даже самые рациональные политические структуры в конечном счете опираются на коллективную веру в свою легитимность, веру, которая не может быть научно или рационально доказана, но должна быть экзистенциально пережита. Эта публичная реальность смысла наиболее ярко проявляется в войне и самопожертвовании, когда люди отдают свои жизни за ценности, выходящие за рамки личной приверженности. Политическая экзистенциальность, таким образом, означает не только то, что политика имеет дело с жизнью и смертью, она утверждает, что телос политического предшествует всем индивидуальным концепциям смысла и ценности.
Шмитт не предлагает вражду и войну в качестве нормативных благ, но скорее идентифицирует их как экзистенциальные реалии, структурирующие политическую жизнь. Тем самым он выявляет нормативность, присущую самому политическому существованию, бросая вызов предположению, что смысл и ценности должны быть индивидуально выбраны или рационально обоснованы. Скептическое отношение рационалиста к политической экзистенциальности — интерпретация ее как скрытого нормативного проекта — отражает более широкую буржуазную тенденциюрассматривать политическую реальность через призму рациональной предсказуемости и деполитизированного бюрократического порядка. Однако проницательность Шмитта заключается в том, что не он, а само политическое нарушает рутину буржуазной жизни. В расколдованноммире политическая экзи-стенциальность — одна из последних структур, способная поддерживать смысл общественной жизни.