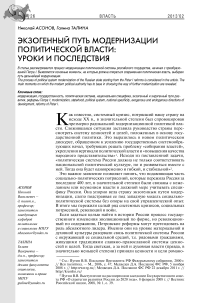Экзогенный путь модернизации политической власти: уроки и последствия
Автор: Асонов Николай Васильевич, Талина Галина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс модернизации политической системы российского государства, начиная с преобразований Петра I. Выявляются основные моменты, на которые должна опираться современная политическая власть, выбирая путь дальнейшей модернизации.
Модернизация, государственность, политическая система, национальная специфика
Короткий адрес: https://sciup.org/170166784
IDR: 170166784
Текст научной статьи Экзогенный путь модернизации политической власти: уроки и последствия
Это важное заявление позволяет понять, что подавляющая часть социально - политических потрясений, которые пережила Россия за последние 400 лет, в значительной степени были связаны с неже-ланием или неумением власти в должной мере учитывать специ фику России. Она упорно вела страну экзогенным путем модер -низации, слепо подстраивая ее под западную модель социально политической системы без опоры на свой управленческий опыт. В итоге мы пережили целый ряд системных кризисов, социальных потрясений, революций и войн.
Если задаться целью найти в истории России процесс государ-ственного изменения эволюционный по форме, но революцион ный по содержанию, Петровские реформы могут претендовать на роль абсолютного лидера. Именно они на уровне материальной и духовной культуры разорвали связь политической системы России с окружающей ее социальной средой, т.е. рядовыми гражданами, живущими традициями славяно православной системы ценно стей и целей. Тогда светская, а за ней и духовная власти (правда, в значительно меньшей степени) приняли ценности и цели романо- германской цивилизации, причем уже освободившейся от «гнета» средневековых представлений о государстве и обществе.
Характеризуя Петровскую эпоху как переломный, рубежный момент в социально-политической истории России, следует учитывать объективные условия, в которых проводились реформы. Говоря об условиях петровской модернизации, укажем на реалии Нового времени, в которых проводились преобразования.
Развитие науки привело к столкновению религиозного сознания и рационалистического мышления. Влияние последнего ощущалось в России уже во второй половине XVII в. и особенно усилилось в период реформ Петра.
Развитие новых теорий происхождения государства, в первую очередь «контрактной» теории (теории общественного договора), осознание этих идей в национальных условиях создали альтернативу исконной для Руси идее богоданности монаршей власти.
События Реформации в Западной Европе разрушили средневековую идею функционирования западного христианского мира под покровительством Святого престола, отделили идею государства от католической догматики. В период Реформации королевские режимы Англии, Дании, Швеции, ряда германских княжеств присвоили себе право назначать глав национальных конфессий. Церковь стала частью структуры самого государства. Россия раннего Нового времени не осталась в стороне от влияний ни католического, ни протестантского мира.
Европа и Россия как ее важная составная часть стали единым пространством, в рамках которого определялись государственные границы, велись войны за территории, использовались общемировые достижения стратегии и тактики военных операций, развивались армии по пути регу-лярства. И реформы первых Романовых, и тем более реформы Петра проходили в условиях длительных и тяжелых войн.
Характеризуя принципиальные отличия моделей государственного устройства, которые обозначились при Петре, остановимся только на трех: 1) разница в церковно-государственных отношениях; 2) разница в базовых концепциях управленческой модели (принцип единоначалия или принцип коллегиальности); 3) разница в отношении к выборному эле- менту в управлении (сохранение и использование представительных учреждений или опора на исключительно бюрократический элемент).
Церковно-государственные отношения. Традиционная (национальная, «допе -тровская») модель этих отношений со времен крещения Руси развивалась в эндогенно-экзогенном русле. Она представляла собой относительно гармоничное слияние национальных (эндогенных) форм социально-политической организации власти с требованиями византийско-православной управленческой традиции, опиравшейся главным образом на постановления Первого и особенно Пятого Вселенских соборов. Они утвердили принцип соборности, удачно вписавшийся в соборно-вечевую управленческую модель восточных славян, и позволили сохранить на бытовом уровне городскую и сельскую общины как неотъемлемые институты политического устройства Руси на местном уровне. В свою очередь, принцип «симфонии» двух властей также был близок славянской политической традиции, в которой, в отличие от кельтов и скифов, духовная или светская власть никогда не имела самостоятельной и решающей роли, подчиняясь вечевым соборным решениям.
Сложившаяся со времен святого Владимира управленческая модель предписывала повиноваться царям в делах гражданских, а патриархам – в делах духовных.
Петровская модель, упраздняя патриаршество и учреждая Синод, решительно рвала со славяно-православной традицией управления. Эндогенно-экзогенный путь политического развития России сменялся экзогенным, т.е. совершенно чуждым, не вписанным в национально-религиозные традиции и противоречащим им.
Задачи и суть нового учреждения характеризовал «Регламент Духовной коллегии». Достоинство («честь и слава») патриарха теперь воспринимались как угроза монархии. Считалось, что укоренение в сознании народа идеи о том, что «патриарх – второй государь, самодержцу равносильный», а «духовный чин есть другое и лучшее государство», ведет к развращению народных сердец, к мятежу, к поддержке духовной власти народом в период «распри» между светским и духовным главами. Преимущество президента коллегии (к каковым относился и Синод) перед патриархом государственные идеологи видели в том, что «само имя президент не гордое есть». Залогом того, что народ «отложит надежду имети помощь к бунтам своим от чина духовного», становился факт установления Синода монаршим указом и сенатским приговором.
Европеизация приводила также к проникновению «научного» в «религиозное» и к трансформации последнего. Рационалистические суждения Запада стали основой понимания мира для официальных идеологов петровского царствования. Бог стал отождествляться с природой, материей, мировым простран-ством1.
Принципы единоначалия и коллегиальности. Сфера, подвергшаяся трансформации в период Петровских реформ не в меньшей степени, чем церковногосударственные отношения, – это сфера государственного (центрального и местного) управления. Как известно, практически вся институциональная подсистема, существующая в рамках политической системы общества, в то время подверглась коренной модернизации. На высшем уровне административносудебные учреждения Московского царства – приказы – были заменены коллегиями. Но если принять во внимание, что и те и другие реализовывали принцип отраслевого управления и исполняли свой функционал при помощи профессионального чиновничества на государственном жаловании, что вполне соответствовало потребностям времени, реформа с этой точки зрения отличалась некоторой преемственностью.
Принципиально новым, перенесенным из Западной Европы принципом при учреждении Сената и коллегий стал сам принцип коллегиальности – принятия решения при голосовании большинством голосов. Однако совсем уйти от византийского единоначалия, присущего приказам, коллегиям не позволял факт назначения на должности президентов коллегий наиболее влиятельных сановников Петра. Способом борьбы со злоупотреблениями глав коллегий было постоянное развитие и совершенствование законодательства. Но и это н е спасло их от вырождения.
Коллегиальная система стала испытывать кризис уже при Екатерине II, а при Павле I были сделаны первые шаги к созданию министерской системы, окончательно оформившейся при Александре I в 1811 г. Министерская система закрепила принцип единоначалия, требующий принимать управленческие решения единолично конкретным должностным лицом в рамках его компетенции.
Представительная система и выборные учреждения. Переход от системы, основанной на сочетании выборных и назначаемых элементов, к господству сугубо бюрократической модели западного типа особенно отчетливо проявился на уровне местного управления. Тенденция ликвидации сословно-представительных учреждений, традиционных для политической системы самодержавно-соборной власти, противоречила требованиям государственного устройства, которые предъявляла к власти славяно-православная цивилизация.
Во второй половине XVII в. правительство сделало ставку на дальнейшее развитие механизма управления, состоявшего из двух начал: самодержавно-приказного и сословно-представительного. На местном уровне закрепилось такое понятие, как «государева мирская служба», или «городовая служба», в качестве которой рассматривалась деятельность посадских и уездных людей, частновладельческих крестьян на выборных должностях, таких как целовальники, дьячки, ларечные, сотские, пятидесятские, десятские. Интересно, что в то время правительство активно боролось с тенденцией многолетнего пребывания одних и тех же людей на должностях губных старост и целовальников и не допускало передачи выборных должностей по наследству2.
Петровская управленческая модель не только разделила страну на губернии, губернии – на провинции, провинции – на дистрикты, но и сильно сократила сферы, в которых могли действовать выборные должностные лица. В шведской модели, на которую в целом ориентировалась Россия, существовала выборность низового звена управления (прихода). Однако экзогенный путь российской политической модернизации упразднил выборных из крестьян, поскольку «в уезде ис крестьянства умных людей нет»1. Принцип соборности сохранился только на низовом уровне институциональной подсистемы, фактически оставив без изменений казачий круг и крестьянский сход, которые были наделены правом принимать властные решения в границах земледельческой общины. Сохранились также политические компетенции и традиционные институты местного управления у многих нерусских народов, входивших в состав России.
В ходе реформ Петра принцип выборности в городах остался только в магистратах. Президент, бургомистры, ратманы и ратсгеры выбирались из купечества; секретари, канцеляристы, подканцеляристы, копиисты и др. – из посадских людей. Магистраты зависели от контор и канцелярий, подчинявшихся воеводам, порой становились их исполнительными органами, в большей мере подчинялись именно этим учреждениям, нежели вышестоящим магистратам.
Аналогично прошла модернизация других структурных элементов политической системы России. Коренным образом были перестроены нормативно-правовая, идеологическая, коммуникативная и силовая подсистемы. В ходе экзогенной модернизации в стране сложилась страшная по своим последствиям социальная дихотомия, вызванная небывалым расколом в системе ценностей и целей, преследуемых властью и оппозицией. Политическая власть для подавляющей части россиян перестала быть «своей». Как писал Вольтер, против Петра и его сторонников оказалась «добрая половина его семьи, и большинство священников, и почти вся нация»2.
Подобное противостояние власти и общества стало лейтмотивом всей дальнейшей социально-политической жизни России, не ускоряя, а сдерживая ее социально-экономическое и культурное развитие, создавая благоприятную почву для формирования «пятой колонны» из недовольных властью граждан, готовых идти в борьбе с ней на крайние меры. Государственно-охранительное, декабристское, западническое, славянофильское (самобытническое), народническое, почвенническое, марксистское и анархическое направления политической деятельности (как и целый ряд идейных ответвлений от них) были прямым следствием петровского раскола – прозападных реформ экзогенного типа. Уже в ХХ в. желание видеть причину неудач в сохранении неизжитых национальных традиций, прежде всего традиций управления, привело к 3 революционным потрясениям, страшной гражданской войне, провалившимся попыткам большевистских преобразований и к новой смуте, вызванной горбачевской перестройкой.
Сегодня у нас появился шанс выйти из возникшего тупика, опираясь на гармоничное соединение успешного национального и зарубежного опыта государственного строительства, встав на эндогенно-экзогенный путь развития. С его помощью можно не только минимизировать растущее противостояние власти и общества, но и вывести Россию из системного кризиса, вернув ей статус великой суверенной державы. Как справедливо отмечал Е.М. Примаков, «тенденции, развившиеся в 2012 г. на мировой арене, свидетельствуют о необходимости свести воедино общечеловеческие ценности, такие как безопасность, свобода, демократия, с национальными интересами»3.
Власти остается сделать следующий, но самый трудный шаг. Ей предстоит найти критерий, по которому будет оцениваться успешность национальных институтов управления: какие из них и почему надо возродить, а какие и почему предать забвению, определить уровень соотношения национальных и заимствованных элементов в границах модернизируемой политической системы и, наконец, создать механизмы их внедрения в практику государственной жизни, найдя для этого соответствующих лиц. Если этого не сделать, то Россия уже в этом столетии перестанет существовать как единое социально-политическое пространство. В этом видятся главные уроки и последствия экзогенного пути модернизации политической власти в нашей стране в последние 400 лет.