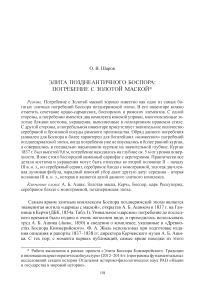Элита позднеантичного Боспора: погребение с золотой маской
Автор: Шаров О.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 234, 2014 года.
Бесплатный доступ
Захоронение с золотой маской хорошо известно как одно из самых богатых погребений погребений в Боспоре, относящихся к поздней римской эпохе. Его тяжелые товары характеризовались сочетанием ирано-сарматских, боспорских и римских элементов. С одной стороны, в погребении были два набора конской упряжи и многочисленные золотые бляшки, используемые для украшения костюма и выполненные в полихромном иранском стиле. В тяжелые грузы также входило значительное количество серебряных и бронзовых сосудов римского производства. Погребальный обряд для этого захоронения уникален в Босфоре и более характерен для богатых «королевских» захоронений позднего сарматского периода, когда захоронения больше не были вырыты в более ранние курганы, а затоплены в специально возведенный курган на значительной глубине. Курган, выкопанный в 1837 году, был высотой 9,6 м, а погребение находилось на глубине примерно 5 м от современной поверхности земли. В яме был боспорский каменный саркофаг с акротерией. Практически все детали костюма и ювелирных изделий могут быть датированы второй половиной 2-го или 3-го с начала. AD, но серебряная служба, серебряная тарелка с монограммой, золотая двухчастная манекена в форме лука и церемониальная конская упряжь указывают на другую дату: среднюю или вторую половину 3-го с. AD, что определяет хронологию этого клеточного комплекса.
А. б. ашик, золотая маска, керчь, боспор, царь рескупорид, серебряное блюдо с монограммой, позднеримская эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/14328626
IDR: 14328626
Текст научной статьи Элита позднеантичного Боспора: погребение с золотой маской
Самым ярким элитным комплексом Боспора позднеримской эпохи является знаменитая могила «царицы с маской», открытая А. Б. Ашиком в 1837 г. на Глинище в Керчи (ДБК, 1854а. Табл. I). Уникальное «царское» погребение до последнего времени было издано в очень неполном виде, и приходилось использовать труд А. Б. Ашика (Ашик, 1850) и сведения о комплексе, указанные в «Древностях Боспора Киммерийского». Ф. А. Жиль использовал при подготовке издания описания и рапорты 1837-1838 гг. директора Керченского музея А. Б. Аши-ка. С тех пор, с момента первых публикаций, самые яркие находки из этого комплекса стали широко иллюстрировать в отечественной и западноевропейской литературе раздел по позднеантичному Боспору (Benndorf, 1878. S. 8; Linas de, 1878. Р. 111, 113, 124; Minns, 1913. Р. 433–435; Ebert, 1921. S. 336, 337; Koндаков, Толстой, 1890. С. 317, 318; Reinach, 1892. Р. 40, 41). Несмотря на тщательную подготовку обширного и объемного издания из 3 томов «Древностей Боспора Киммерийского», включивших наиболее яркие находки первой половины XIX в. на Боспоре, доставленные в Императорский Эрмитаж, это издание не избежало и некоторых досадных ошибок. Это относится, к сожалению, и к публикации материалов данного комплекса, который вошел в науку под разными названиями: «Погребение царицы с Золотой маской», «Погребение царя Рескупорида II», «царская гробница жены Рескупорида II», «погребение с Золотой маской 1837 года», «комплекс Глинище 1837 года», «Grab mit goldene Maske, Jahre 1837» (Šarov, 1994. S. 426. Abb. 7; 2003. S. 46–48. Abb. 16A; Sharov, Kazanski, 2006. P. 93–98; Шаров, 2006. С. 74–76; 2009а. С. 28) и т. д. К таким досадным упущениям можно отнести как неверно указанные размеры отдельных вещей комплекса и их неточные рисунки, так и выводы о хронологии комплекса, которые затем в силу высокого авторитета издания перешли почти во все научные труды по Боспору (Шаров, 2008. С. 258–264; 2009а. С. 25, 33). Еще одна неточность связана с золотой гривной из этого комплекса. В ДБК дано указание на рисунок гривны (ДБК, 1854. С. 72. Табл. XI–6) из кургана у станицы Сенной, которая якобы идентична золотой гривне, найденной в комплексе с Золотой маской, но это полностью не соответствует реальности (см.: Казанский, Мастыкова, 2007. С. 169–171; Тайна золотой мас-ки1…, 2009. № 7). Описание серебряных ложки и блюда с выгравированными надписями (ДБК, 1854б. С. 204–210. Табл. XXX, 5, 11) также, к сожалению, страдает большими погрешностями, как в прочтении, так и в интерпретации надписей (Шаров, 2009а. С. 34–36). Эти и другие факты, которые можно привести из историографического обзора, побуждают обратиться более пристально к этому yникальному для Боспора позднеримской эпохи комплексу.
Обратимся к отчетам и рапортам А. Б. Ашика (ДБК, 1854а; 1854б; 1854в; Шаров , 2009а. С. 26, 27).
В большом кургане высотой 9,6 м в окрестностях татарской деревни Глинище, на глубине 4,27 м от древней дневной поверхности был найден мраморный саркофаг, имевший форму параллелепипеда с треугольной крышей и коническими фигурами по углам, напоминающими рога (Ашик, 1850. С. 141). В нем лежал скелет в полном убранстве с большим количеством драгоценных находок (цв. илл. XII). Помимо золотой маски (цв. илл. XIII, 1) (Тайна…, 2009. № 1) и золотого венка-диадемы с центральной пластиной, украшенной по краям четырьмя гранатами в оправах (Там же. № 2), на остове были найдены золотые серьги, украшенные гранатами, золотая гривна, два золотых браслета (цв. илл. XIII, 2), два золотых перстня с вставками камней и золотое кольцо (Там же. № 3; 5–10). По сторонам тела лежали: фрагмент золотой фибулы2 (цв. илл. XIII, 3), деревянное веретено, покрытое золотой фольгой (Тайна..., 2009. № 11), красный кожаный кошелек с аппликацией в виде хищной птицы, вырезанной из кожи (Там же. № 49), бронзовая фибула3, золотой флакон, украшенный гранатами, несколько оправленных в золотую оправу гранатов (Там же. № 4; 14), монета с монограммой «BAE»4, 560 золотых бляшек, которыми была усеяна одежда (Там же. № 15-31). Остальные вещи лежали без точного указания, частично в самом саркофаге, частью в могильной яме. Из золотых вещей: части двух золотых полихромных конских уборов с серебряными ременными пряжками (цв. илл. XIV, 1) (Там же. № 50; 51), из серебряных предметов: ваза с крышкой, украшенная амурами с гирляндами, скипетр (Там же. № 33; 40), три серебряных сосуда: два кувшина и ковш, составляющих, вероятно, сервиз (Там же. № 34-36), три ложки (Там же. № 37–39) и большое серебряное блюдо с надписью «Ρησκουπόρει βασιλέως» (цв. илл. XIV, 2) на обороте и монограммой «АNTВ» в центральном плафоне (Там же. № 32), которое стояло вне саркофага, за головой (Ашик, 1850. С. 143). В комплексе были найдены вне саркофага, у ног, в могильной яме: два бронзовых котелка типа «Хеммур» (Тайна..., 2009. № 44)5, большая бронзовая чаша, украшенная с двух сторон атташе в виде голов Горгоны Медузы и ручками в виде змей (Там же. № 41), бронзовый кувшин с биконическим туловом типа «Стралджа» (Там же. № 42), два колокольчика6, две бронзовые ножки от трона в виде лап фантастического животного (грифона?)7 и верхняя часть стойки треножника с креплением для чаши с изображением Диониса (Там же. № 43; 45; 47). В этом погребении были найдены также большое бронзовое зеркало (Там же. № 46) и фрагменты железного ножа плохой сохранности, но сохранилась золотая оправа рукояти с элементами скани (Там же. № 13), а также в описи числятся два бронзовых меча (Спасский, 1846. С. 138)8.
Попытаемся определить дату совершения этого погребения, исходя из анализа типов погребального инвентаря.
Хронология комплекса
Два золотых браслета ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 81, 2 ) (цв. илл. XIII, 2 ) в виде манжет типа III, по С. Лепажу ( Lepage , 1971. Р 7), шарнирные, инкрустированные гранатами ( Šarov , 2003. Fig. 19; Тайна…, 2009. № 5, 6), имеют близкие параллели в материалах Taксилы: они соответствуют типу Musche 8 (70 г. н. э.) ( Musche , 1988. Typ. 75. 8.1 .1-3 ). С другой стороны, типологически близкие браслеты происходят из сарматских могил, например браслет, обнаруженный в кургане № 2 некрополя Тузлуки на Дону, который датируется I в. н. э. (L’Or des Sarma-tes…, 1995. Р. 92. № 118). Два браслета той же формы происходят из кургана 10
некрополя Koбяково на Дону и датируются концом I – началом II в. (L’Or des Sar-mates…, 1995. Р. 64. № 88, 89). Между тем инкрустированные гранатами браслеты не типичны для производства золотых и серебряных изделий I – начала II в., они появляются только в течение второй половины – последней трети II в. н. э. ( Tрейстер , 2004. С. 248). Изображения браслетов на одежде известны на статуях из Пальмиры I–II вв. ( Lepage , 1971. Fig. 12). О. В. Горская cчитает, что такие браслеты характерны и для III в. н. э., но эта дата опирается лишь на дату предмета вне комплекса, хранящегося в Британском музее ( Горская , 2009. С. 68).
Можно предположить также восточное происхождение для золотого флакона с гранатами в оправах ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 84). Самая близкая параллель происходит из Иберии, из могилы 7 аристократического некрополя в Aрмазисхеви ( Musche , 1988. S. 135, 136, 140. Pl. 34. 3.2.4. 2 ). Эта могила содержит монеты диапазона 64–157 гг. С другой стороны, металлические флаконы в полихромном стиле довольно часто встречаются в cарматских могилах I–II вв. ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 84; Скалон , 1961. С. 126. Рис. 11–15). Наиболее поздние флаконы этого стиля найдены в заполнении постройки № 18 в Tанаисе, откуда происходят также 17 монет Рескупорида IV (242–276 гг.) ( Tрейстер , 2004. С. 249; Горская , 2009. С. 69).
У двух золотых серег с кулоном в виде амфор также есть достаточно ранние параллели. Мы можем датировать по аналогиям этот тип украшений I в. до н. э. – I в. н. э. ( Musche , 1988. S. 96–103. Pl. 18.14.1. 1–5 ). Между тем разделенное на части оформление, которое включает вставки гранатов в форме сердца, может говорить и о более поздней дате. Действительно, подобные по форме серьги встречены и в погребальных комплексах Средней Азии III–IV вв. ( Tрейстер , 2004. С. 248; Горская , 2009. С. 69–71). Можно добавить, что серьги с кулонами в виде амфор представлены также среди средиземноморских древностей III в. н. э. ( Ross , 1965. Рl. 15, 7 ).
Пятьсот шестьдесят маленьких золотых тисненых бляшек украшали одежду погребенного ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 88, 18–29 ; Тайна…, 2009. № 15–31). Подобные бляшки есть в сарматских могилах, а именно в комплексах III в. н. э. в Котовой слободе ( Берхин , 1961. Рис. 1, 10, 11 ) и в Нагорном, в кургане 1 ( Гудкова, Фокеев , 1984. Рис. 13, 2, 3 ; Горская , 2009. С. 71–74). С другой стороны, некоторые формы ( Reinach , 1892. Рl. 23, 11 ; 22, 3, 6, 21, 22 ) напоминают бляшки эпохи переселения народов и могут считаться их прямыми прототипами ( Kazan-ski, Mastykova , 2003. Р. 111; Мастыкова , 2014).
Бусы комплекса 1837 г. представлены различными типами больших стеклянных мозаичных бус в стиле «миллефиори», глазчатыми и круглыми сердоликовыми, говорящими как о ранней дате – I/II в. н. э. (ср.: Musche , 1988. S. 125, 131. Taf. XXVII. Typ 2. 2. 14 ), так и о более поздней – середине/второй половине III в. н. э. ( Френкель , 2009. С. 114, 115. Тип 5).
Таким образом, анализ хронологии типов украшений костюма, выполненных в полихромном иранском стиле, позволяет говорить об их датировке второй половиной II – началом III в. н. э., хотя отдельные типы бус и показывают более позднюю дату.
Рассмотрим хронологию металлической посуды, происходящей из данного погребения.
Серебряная пиксида ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 87; 90, 2 ) с шаровидным ту-ловом , украшенная Эротами, несущими гирлянды с головой Медузы ( Reinach , 1892. Рl. 37, 1 ; Kропоткин , 1970. № 739. Рис 49; Šarov , 2003. Abb. 12). Хорошо известна серебряная пиксида, происходящая из кургана Хохлач ( Raev , 1986. Р.14. Pl. 9). Этот курган датируется концом I – началом II в., в то время как сама пиксида, согласно Б. А. Раеву, могла бы быть более ранней – III/II вв. до н. э. Есть и иные параллели, происходящие из некрополя Одессоса, которые датируется серединой II в. н. э. ( Tрейстер , 2004. С. 249; 2009. С. 51, 52), но наиболее поздние параллели данной пиксиде происходят из некрополя Варна, которые датируются началом III в. н. э. Б. А. Раев, основываясь на болгарских параллелях, отнес пиксиду из керченского погребения 1837 г. к II–III вв. н. э. ( Raev , 1977. S. 630).
Бронзовый кувшин с биконическим туловом ( Kропоткин , 1970. № 826. Рис. 69; Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 85, 1 ; 89, 1 ) принадлежит к типу Eggers-128 или типу «Straldza», дата которого довольно широка, от конца I до III в. н. э. ( Raev , 1977; Раев, Науменко , 1993. С. 156, 157). На территории Римской империи их находят часто в кладах с монетами середины III в. н. э.; наиболее поздние клады с такими кувшинами сопровождались монетами 268–269 гг. ( Tрейстер , 2004. С. 253; 2009. С. 55, 56). Согласно В. В. Шкорпилу, кувшин этого типа был найден в Керчи, в могиле 339.1903 г. с оттисками монет Рескупорида IV (233–234 гг.) ( Шкорпил , 1910. С. 34).
Два серебряных кувшина c яйцевидным туловом ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 85, 2, 3 ; 86; 90, 3 ) имеют валики на горле ( Reinach , 1892. Pl. 37, 2 ; Kропоткин , 1970. № 739. Рис. 48; Sarov , 2003. Fig. 13, 6, 7 ). У одного из этих двух кувшинов с атташе в виде маски Медузы есть близкие параллели в кладе Шаурс (Chaourse) во Франции, датированном, согласно монетам, «terminus post quem» после 275 г. н. э. ( Tрейстер , 2004. С. 250; 2009. С. 49–51). Валики на горле, как на кувшине из комплекса 1837 г., свидетельствуют о посуде, которая начала изготавливаться лишь с III в. н. э. ( Strong , 1966. Р. 160, 163). Речь идет скорее о середине – второй половине III в. н. э., как свидетельствуют сосуд, происходящий из крепости Дура-Европос, разрушенной в 256 г., или подобный сосуд, обнаруженный с монетами Викторина (269 г.) в могиле Бонна ( Tрейстер , 2004. С. 251, 252). По форме атташе у кувшина из комплекса 1837 г. есть параллели среди материала, происходящего из Антиохии, который датируется концом III – IV в. Все это позволило М. Ю. Трейстеру (2004. С. 252) отнести данный кувшин ко второй половине III – первой половине IV в. н. э. Следует добавить, что, согласно данным В. В. Шкорпила (1910. С. 34), кувшин этого типа был найден в Керчи, в той же могиле 339.1903 г. с оттисками монет Рескупорида IV (233–234 гг.).
Серебряный ковш ( Kропоткин , 1970, № 739g; Sharov, Kazanski , 2006, Fig. 90, 4 ) имеет достаточно многочисленные аналогии в кладах II в. н. э., наиболее поздние аналогии известны среди находок из клада в Нотр-Дам-д’Алансон, откуда происходят также монеты 265–270 гг. ( Tрейстер , 2004. С. 252, 253; 2009. С. 47–49).
Два бронзовых ведра типа Хеммур (Hemmoor), одно из которых хранится в Эрмитаже ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 90, 1 ), принадлежат типу Eggers-63 ( Eggers , 1951. S. 165–166. Taf. 7). Этот тип существовал в течение периодов Cl и C2
(180-300/320 гг. ) ( Notte , 1989. Р. 27; Трейстер , 2009. С. 56, 57 ). Большая часть котелков типа Eggers-63 происходит из римской Паннонии, что позволяет предполагать их изготовление в одной из мастерских этой провинции.
Серебряные ложки, происходящие из могилы 1837 ( Reinach , 1892. Pl. 30, 3 ; Sarov , 2003. Fig. 13, 4, 5; Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 81, 4 ; 83), принадлежат к эпохе, идущей от конца I в. н. э. до рубежа II/III вв. Наиболее поздние аналогичные объекты были найдены в знаменитой княжеской могиле в Mушове (ок. 170 г.) и в кладе из Бертовилля (Bertouville) конца II – III в. ( Tрейстер , 2004. С. 253; 2009. С. 52, 53). На одной из этих ложек можно прочитать поврежденную запись, которая содержит фрагмент даты боспорской эры ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 81, 4 )9 .
Коснемся также даты знаменитого серебряного блюда. Д. Стронг сравнил керченское блюдо с прямоугольными серебряными чашами из Эсквилинско-го клада (Mons Esquilinus) в Риме, которые имеют центральную монограмму «PROJECTA», выполненную в технике позолоты и черни внутри лаврового венка . «Большое круглое блюдо из могилы королевы с Золотой маской в Керчи имеет подобную монограмму в центре, которая выполнена в технике позолоты и черни, и миниатюрное аналогичное украшение на краю блюда. Оно датируется приблизительно около 300 г. н. э., и надпись на обороте показывает, что оно было во владении царя Боспора Рескупорида» (цв. илл. XIV, 2 ) ( Strong , 1966. Р. 195. Pl. 63a). Близкую точку зрения высказал и М. Ю. Трейстер (2004. С. 250; 2009. С. 43–47). В пользу этой точки зрения есть важное обстоятельство: в центральном плафоне прямоугольного блюда из клада, зарытого на Эсквилинском холме (Mons Esquilinus), буква «N» точно так же совмещена с «T», как и на керченской монограмме, но у меня есть серьезные возражения против позиции Д. Стронга о том, что чернь была освоена римскими мастерами лишь в конце III в. н. э. ( Шаров , 2001. С. 184; 2004. С. 259–265; 2009б. С. 31–36).
Серебряное керченское блюдо, по моему мнению, занимает промежуточное положение между предметами второй половины II в. н. э., когда использовался орнамент в виде лаврового венка вместе с бегущей волной, выполненный чернью, и предметами начала IV в. н. э., когда у различных по форме сосудов появились центральные плафоны с монограммами, выполненными одновременно в технике черни и позолоты ( Шаров , 2004. С. 259–265). Вероятно, на основании того, что на нашем блюде весь орнамент выполнен в смешанной технике – позолоты и черни, мы должны склонить чашу весов в сторону более поздней даты ее изготовления, но так ли надежна дата, на которую опираются Д. Стронг и М. Ю. Трейстер? ( Шаров , 2009а. С. 37, 38).
Я полагаю, что датировка блюда из комплекса 1837 г. на основании даты Эсквилинского клада не позволяет относить могилу с Золотой маской, вопреки мнению М. Ю. Трейстера ( Трейстер , 2004. С. 250), ко времени правления Рескупорида VI, умершего после 341/342 г. В действительности клад с Эсквилина, сокрытый в первой половине IV в. н. э., содержит, если верить каталогу
O. M. Дальтона, объекты различных эпох, в том числе застежку раннего железного века ( Dalton , 1901. № 229). Можно задаться вопросом: а все ли объекты, относящиеся к Эсквилинскому кладу, происходят действительно из закрытого комплекса? В любом случае, можно констатировать, что клад содержит объекты, дата которых не ограничивается только IV в. н. э., но объединяет также и предметы второй половины III в. н. э. В кладе представлена, например, луковичная фибула типа Keller-Prottel-1, датированная 250/280-320 гг. ( Prottel , 1988. S. 349–351. Abb. 1; Dalton , 1901. № 227). Таким образом, мы не можем относить плоское прямоугольное блюдо из Эсквилина лишь к наиболее поздней части сокровища, оно вполне может быть современным и фибуле типа Keller-Prottel-1. Блюду из комплекса 1837 г. более логично предложить, согласно наиболее близким параллелям к его центральному медальону (чаши из Вены и Ниша, монеты и медальоны Константина I, чаши из Эсквилина), широкие хронологические рамки: в пределах второй половины III – первой трети IV в. н. э. ( Sharov, Kazan-ski , 2006. Р. 93–100; Шаров , 2009а. С. 38).
Из этого комплекса также происходит фрагмент золотой двучленной лучковой фибулы (цв. илл. XIII, 3 ). Сохранились лишь игла, пружина и ось, но, вне всяких сомнений, она относится к типу 15–3, по А. К. Амброзу, и датируется исключительно серединой – второй половиной III в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 52; Малашев , 2000. С. 207)
Две гарнитуры конской сбруи ( Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 82). Они имеют серебряную основу, украшенную золотым тисненым листом с сердоликовой вставкой в центре ( Reinach , 1892. Pl. 29; Sarov , 2003. Fig. 21; 22). Согласно классификации полихромных изделий ( Sharov, Kazanski , 2006. Р. 95), эта парадная конская гарнитура принадлежит к группе Силистрия-Керчь (Silistra-Kertch), которая датируется второй половиной III – серединой IV в. н. э. и имеет распространение в Римской империи, у германцев, в Юго-Западном Крыму и в сармато-аланском мире (цв. илл. XIV, 1 ). Нужно отметить, что бляхи конской сбруи в форме сердца, обнаруженные в могиле 1837 г., так же как и в могиле 1841 из Аджимушкая, имеют параллели в пог. 9 могильника Нагорное, конская гарнитура которого отнесена В. Ю. Maлашевым к группе IIB (вторая половина III в. н. э.) ( Малашев , 2000. Рис. 5), а также в пог. 152 могильника Нейзац ( Храпунов , 2003. Рис 3, 1–3, 6 ), где представлен еще и умбон первой половины III в. н. э.
Тем не менее, несмотря на эти близкие параллели деталям конского убора, керченская гробница 1837 г. принадлежит, по мнению В. Ю. Малашева, скорее всего, к хронологической группе IIIB (320/330–360/370 гг.). С погребениями группы IIIB ее сближают особенности сбруйного набора: наличие прямоугольных блях, идентичных бляхам из гробницы 1841 г. – по В. В. Шкорпилу (Малашев, 2000. С. 202, Рис. 12Б, 4), и близость бляхи сердцевидной формы бляхе из гробницы 1841 г., по А. Б. Ашику (Там же. Рис. 10Г, 3). Я уже отмечал ранее в ряде работ (Šarov, 1994; 2003; Sharov, Kazanski, 2006. Р. 95–96; Шаров, 2008; 2009а. С. 39, 40), что в одну группу полихромных изделий попали керченские комплексы, у которых сбруйные ремни относятся к различным орнаментальным стилям. Чтобы более четко определить их хронологический статус, необходимы дополнительные критерии. Для В. Ю. Малашева полихромный стиль является ведущим признаком группы IIIA, и он предлагает в качестве критериев для выделения группы IIIA появление пряжек типа П–9 или пряжек типа Келлер А-В-С, поясных полихромных наконечников типа Н3б, наконечников типа Н5 и Н6 с круглыми и секировидными окончаниями, колец-разделителей конской упряжи с 3 зажимами (Малашев, 2000. С. 200–202). Этих хроноиндикаторов нет в погребении с Золотой маской, но есть в погр. Аджимушкай 1841 и погр. Керчь 1891 г., а к тому же узда в этих керченских погребениях сделана совершенно различным способом (Шаров, 2008. С. 259, 260; 2009а. С. 40).
Важно еще раз отметить, что не только сам тип узды из погребения с Золотой маской оригинален: там нет колец-распределителей ремней, все бляшки крепятся на ремни узкими пластинками ( Šarov , 1994), но оригинален и тисненый орнамент змейками по контуру, который более нигде не был встречен. В бляшках, происходящих из погребения с Золотой маской, отверстия для вставок не напаяны, а вырезаны в верхней золотой пластине, а затем края отжаты наружу для получения каста. Сердоликовые вставки вставлены на серебряную основу и прикрыты сверху золотой бляшкой. Добавлением к этому является также тип серебряных пряжек с удлиненными узкими обоймами и удлиненно-овальными гранеными рамками, которые крепили ремни поводьев к трензельным кольцам. Пряжки из конского убора погребения с Золотой маской занимают промежуточное положение между самыми ранними пряжками типа П1 и пряжками типа П8 с граненой рамкой и граненым язычком с уступом сзади, которые характерны для периода IIB, по В. Ю. Малашеву ( Малашев , 2000. Рис. 2). На основании всех этих данных можно отнести погребение с Золотой маской только к фазе IIB, по В. Ю. Малашеву (250/260–290/300 гг.), а не к более позднему времени.
Конские парадные уборы также содержат бляшки с тамгами ( Sarov , 2003. Fig. 22), интерпретированными ранее как знаки Рескупорида III (210–226 гг.) ( Шкорпил , 1910. С. 32) (цв. илл. XIII, 4 ). Знаки этого царя были идентифицированы благодаря каменной плите, происходящей из Taнаиса (КБН…, 1965. № 1248)10. Данная тамга напоминает также трехсоставные знаки других царей боспорской династии: Тиберия Евпатора (154–170 гг.) ( Драчук , 1975. Рис. 14.5. 1–13 ) и Савромата II (174–210/211 гг.), отца Рескупорида III ( Драчук , 1975. Рис. 13.1. 19, 20 ). Между тем С. А. Яценко заметил, что у знака-тамги из могилы 1837 г. есть дополнительный элемент, а именно звезда справа вверху, что позволило ему высказать гипотезу о принадлежности данной тамги другому царю Боспора, вероятнее всего – Рескупориду (IV)V (242–276 гг.) ( Яценко , 2001. С. 57), что вполне соответствует нашим хронологическим построениям.
Можно резюмировать данные о хронологии могилы 1837 г. Следует отметить, что могила не содержит никаких предметов, которые мы могли бы датировать с уверенностью исключительно IV в. н. э. Наоборот, целая серия объектов указывает, что дата наиболее вероятного заложения могилы – только III в. н. э., а более точно – его вторая половина, которая мне кажется наиболее вероятной датой cовершения этого погребения, на что ранее указывал М. М. Казанский ( Kazanski , 1995. Р. 192).
Интерпретация этого комплекса как погребения царицы Боспора была принята в большинстве ведущих научных работ XIX – первой трети XX в. ( Шаров , 2009а. С. 27–33; 2009в. С. 97–100). Нужно отметить, что эта точка зрения долгое время была преобладающей и в большинстве ведущих трудов, посвященных археологии позднеантичного Боспора, об этом комплексе писалось как о «погребении Царицы в Золотой маске», «погребении жены» или «супруги царя Рес-купорида» ( Gille , 1860. Р. 220, 227; Жиль , 1861. С. 252, 253; Benndorf , 1878. S. 8. Taf. II; Мinns , 1913. Р. 433–435; Ebert , 1921. S. 336–337; Марти , 1926а. С. 12, 13, 1926б. С. 48).
Но существовала начиная с середины XIX века и иная точка зрения, не замеченная большинством исследователей позднеантичного Боспора. Впервые мысль о том, что в этом кургане может быть похоронен сам царь Рескупорид, была высказана прекрасным знатоком античности – академиком Л. Стефани. В «Путеводителе по античному отделению Эрмитажа» он пишет следующее: «Этот венец, которого работа не показывает тонкого вкуса, был найден в одной гробнице и на одном покойнике с большой золотой маской, помещенной ниже его. В том же саркофаге были найдены еще две серьги, которые, по-видимому, указывают на женщину, и уздечка, заставляющая предполагать, что здесь лежал мужчина . Черты лица маски носят, очевидно, более мужской , чем женский характер. Изображение всадника на венце также говорит в пользу предположения мужского покойника . Вероятнее всего, что в гробнице были похоронены муж и жена вместе и что маска и венок, находившийся в гробнице непосредственно над маской, принадлежали мужу . Надпись серебряной ложечки, найденной в той же гробнице и хранящейся в этом же обелиске, показывает, что гробница относится к VI столетию понтийской эры, или к III столетию по Р. Х., а надпись серебряной чаши, там же найденной, делает вероятным, что покойник был одним из боспорских царей , носящих имя Рескупорида» ( Стефани , 1856. С. 74). Этот вариант атрибуции данного комплекса, несмотря на весьма высокий авторитет Л. Э. Стефани, не получил широкого научного признания и оказался в XX–XXI вв. прочно забытым.
В 20-х гг. прошлого столетия появилась, на основании новой даты серебряного блюда и нового прочтения монограммы в центральном плафоне, точка зрения о том, что серебряное блюдо могло быть подарком Каракаллы царю Рес-купориду и этот комплекс мог быть и погребением самого царя Рескупорида II/ III. Эта точка зрения была в очень осторожной форме высказана М. И. Ростовцевым уже за границей ( Rostovtzeff , 1923. Р. 103–105), и именно ее подхватили позднее многие специалисты, не ссылаясь на работы опального историка ( Гайдукевич , 1949. С. 421–424; Иванова , 1953; Скалон , 1961; Кропоткин , 1970. С. 27, 87. № 739; Gajdukevič , 1971. S. 443–444). Один из авторов «возрожденной» концепции, В. Ф. Гайдукевич, писал следующее: «В 1837 году в одном из курганов, расположенных за Керченским предместьем Глинище, была раскопана гробница, в которой оказался мраморный саркофаг с останками царя Рескупорида III или одного из членов его семьи… Особый интерес вызывает большое серебряное блюдо, в центре которого выгравирован лавровый венок и монограмма, по-видимому обозначающая два слова “ Аντ (ωνείνου) β (ασιλεως)”. На оборотной стороне вычеканена точечными буквами надпись “Ρησκουπόρει βασιλέως” (“царя
Рескупорида”) и обозначение веса блюда. Есть основание думать, что блюдо это было подарено боспорскому царю Рескупориду III римским императором Каракаллой, собственное имя которого было Марк Аврелий Антонин» ( Гайдукевич , 1949. С. 421–424; Gajdukevič , 1971. S. 443, 444).
Несмотря на эту почти официальную точку зрения, часть ученых склонялось к точке зрения А. Б. Ашика – Ф. А. Жиля, что это погребение жены или наложницы царя, а часть – к точке зрения В. Ф. Гайдукевича, что это мужское царское погребение.
Известнейший антрополог И. И. Гохман в 2004 г. по моей просьбе осмотрел Золотую маску на предмет определения, с какого лица она могла быть изготовлена – с мужского или с женского? Им был проведен детальный антропологический анализ керченской маски и обработаны метрические результаты. По заключению И. И. Гохмана11, Золотая маска реалистически копирует или изображает лицо мужчины возраста 30–35 лет, европеоидного облика ( Шаров , 2009а. С. 31). Это подтвердило старую точку зрения Л. Э. Стефани, но осталось непонятным, почему по всем деталям костюма, включая бусы, серьги, флакончик, веретено, сотни бляшек, усыпающих одежду, вуаль-накидку на голове, – это погребение можно в большей степени считать женским? Также смущали и размеры костяка, которые были указаны А. Б. Ашиком в отчетах, – ок. 150 см. Не увязываются с этим ростом и размеры Золотой маски: ее высота 22,5 см, при обрезанной верхней части, так как вверху маски крепилась золотая диадема и, соответственно, маска должна была по всем пропорциям принадлежать человеку совсем иного роста – не менее 170 – 175 см. По остальным деталям (оружие – два меча, две парадные конские упряжи, тип диадемы12) комплекс может считаться мужским, что и подтвердил антропологический анализ маски.
Таким образом, предварительно можно высказать на сегодняшний день как минимум три варианта объяснения этого необычного факта: либо это было одновременное захоронение мужчины и женщины, как предполагал в 1856 г. Л. Э. Стефани, совершенное по «особому» обряду, и тогда вся информация А. Б. Ашика об открытии комплекса может быть подвергнута сомнению; либо это захоронение, возможно, царицы, но с мужской золотой маской на лице; либо мужчины, похороненного по особому обряду в «женском» или же в «ритуальном, сакральном» одеянии.
По стилю исполнения (мастерство резчика по дереву и последующая работа чеканщика) керченская Золотая маска явно очень близка к прекрасным образцам античных бронз и скульптур (цв. илл. XIII, 1), чего нельзя сказать об остальных известных на сегодня золотых масках (Тайна…, 2009. № 52, 56). Очень близки по иконографии к портретным чертам керченской маски некоторые черты лица известного эрмитажного бронзового бюста, приписываемого Динамии, – тот же тяжелый подбородок, опущенные складки рта, полные губы, припухлость над верхней губой, одутловатое лицо, сильная асимметрия лица (Шаров, 2006. С. 75, 76; 2009в. С. 98–100). Может быть, эти общие иконографические моменты говорят нам о неких традициях портрета боспорской школы торевтов? Так кому же принадлежала Золотая маска? Царю, царице или члену их рода? Я склоняюсь к мнению, что Золотая маска принадлежала, с большой долей вероятности, царю Боспора, но это не исключает и других самых разнообразных версий. Если мы принимаем первую точку зрения – о двух погребенных сразу, то возникает вопрос: можно ли разделить погребальный инвентарь на мужской и женский при условии описания этого комплекса автором раскопок как единого? (цв. илл. XII). Условно – да: к мужскому погребению можно отнести диадему, маску, оружие, две конские упряжи, вероятно, весь серебряный сервиз, включая серебряное блюдо и бронзовую посуду, но при этом варианте в погребении нет вещей, которые можно было бы отнести к «мужскому костюму». Зато в изобилии представлены предметы, относящиеся к «женскому» костюму: золотые бляшки, вуаль, две низки бус, серьги, браслеты, туалетный флакон, пиксида с амурами, бронзовое зеркало и т. д. Это деление на два условных погребения вполне возможно, но при большом допущении, так как я исхожу из презумпции доверия к автору раскопок. А. Б. Ашик пишет, что при открытии погребения присутствовали градоначальник, чиновники и жители города и все увидели после поднятия крышки саркофага «...остов с золотым лицом, диадемою на голове и в полном наряде. Одежда царицы, усеянная золотыми украшениями; ткань, которою покрыта была голова, ниспадала до пояса и сохранила свой цвет. Эта ткань была шерстяная с золотыми узорами и другими украшениями: но едва к ней коснулся воздух, то все разлетелось в пыль, и остались только золотые блестки» (ДБКа, 1854. С. 10). Если мы склонны доверять сведениям А. Б. Ашика, то, скорее всего, нужно рассматривать: либо второй вариант, и речь может идти об особом обряде погребения, ритуале, по которому на лик женщины возложили мужскую золотую маску, а рядом положили царские регалии (скипетр, узда с царской тамгой); либо третий – когда мужчина в золотой маске был одет в особые, возможно, не столько женские, сколько «сакральные» или «ритуальные» одежды.
Исходя из имени царя Рескупорида на блюде и тамги боспорской царской династии на конской сбруе, следовало бы отнести эту могилу ко времени единственного Рескупорида, который правил в течение второй половины III в. н. э. – Рескупорида IV (242–276 гг.). Царский ранг могилы мне кажется вполне очевидным. Действительно, помимо богатого инвентаря, могила дает нам знаки династии Тибериев Юлиев на конской сбруе и серебряный скипетр ( Reinach , 1892. Рl. 2, 5 ; Sharov, Kazanski , 2006. Fig. 88, 15 ), который мог являться частью царских регалий. Серебряное блюдо, несущее надпись с именем царя Рескупо-рида, также могло бы указывать прямо на самый высокий статус погребения и на имя своего владельца (Ibid. Fig. 91, 2 ; Шаров , 2009а. С. 42). Между тем мне кажется неосторожным выдвигать гипотезу о принадлежности могилы с Золотой маской только семье Рескупорида IV. Действительно, блюдо Рескупорида могло попасть во владение его наследников или соправителей, таких как Tейран (266, 275–278 гг. н. э.), Савромат IV (275 г. н. э.) или Фофорс (285–308 гг. н. э.).
Периоды их правления соответствуют возможным хронологическим рамкам могилы с Золотой маской ( Sharov, Kazanski , 2006. Р. 93–100; Шаров , 2009а. С. 42; 2009в. С. 100, 101).
Список литературы Элита позднеантичного Боспора: погребение с золотой маской
- Амброз А.К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. М.: Наука. 126 с. (САИ; Вып. Д1-30.)
- Ашик А.Б., 1850. Часы досуга с присовокуплением писем о Керченских древностях. Одесса. 197 с.
- Берхин И.П., 1961. О трех находках позднесарматского времени в Нижнем Поволжье//АСГЭ. Вып. 2/Отв. ред. М.И. Артамонов. Л.: Гос. Эрмитаж. С. 141-153.
- Гайдукевич В.Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: АН СССР 624 с.
- Горская О.В., 2009. Сокровище загадочной могилы//Тайна Золотой маски: каталог выставки Государственного Эрмитажа/Отв. ред. А.М. Бутягин. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 63-75.
- Гудкова А.В., Фокеев М.М, 1984. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв. н. э. Киев: Наукова думка. 120 с.
- Драчук И.С., 1975. Система знаков Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 176 с.
- ДБК, 1854а. Древности Боспора Киммерийского/Под. ред. Ф.А. Жиля. Т. I. СПб.: Императорская Академия Наук. 279 с.
- ДБК, 18546. Древности Боспора Киммерийского/Под. ред. Ф.А. Жиля. Т. II. СПб.: Императорская Академия Наук. 339 с.
- ДБК, 1854в. Древности Боспора Киммерийского/Под. ред. Ф.А. Жиля. T. III: Атлас. СПб.: Императорская Академия Наук. 86 табл., 2 л. карт, 5 с. чертежей и планов.
- Жиль Ф.А., 1861. Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей с историческим введением об Эрмитаже императрицы Екатерины II и образовании музея нового Эрмитажа. СПб.: Императорская Академия Наук. 409 с.
- Иванова А.П., 1953. Искусство античных городов Северного Причерноморья, Л.: Ленинград. гос. ун-т. 192 с.
- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2007. Золотая гривна из Фанагории: о германцах на Боспоре Киммерийском в позднеримское время//Боспорские чтения. Вып. VIII/Отв. ред. В.Н. Зинько. Керчь: Деметра. С. 169-177.
- Кондаков Н.П., Толстой И.И., 1890. Русскiя древности въ памятникахъ искусства, издаваемые графомъ И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ//Древности временъ переселенiя народовъ. Вып. 3. СПб.: Императорская Академия Наук. 192 с.
- КБН, 1965. Корпус боспорских надписей/Отв. ред. В.В. Струве. М.; Л.: Наука, 951 с.
- Кропоткин В.В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе. М.: Наука. 280 с. (САИ; Вып. Д1-27).
- Малашев В.Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Нижнем Дону/Отв. ред. Ю.К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.
- Марти Ю.Ю., 1926а. Сто лет Керченского музея. Исторический очерк. Керчь: Гос. Керченский арх. музей. 96 с.
- Марти Ю.Ю., 1926б. Путеводитель по керченским древностям. Керчь: Гос. Керченский арх. музей. 60 с.
- Мастыкова А.В., 2014. «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов//КСИА. № 232, в печати.
- Раев Б.А., Науменко С.А., 1993. Погребение с римскими импортами в Ростовской области//Скифия и Боспор: материалы конференции памяти академика М.И. Ростовцева/Отв. ред. Б.А. Раев. Новочеркасск: Музей донского казачества. С. 151-160.
- Скалон К.М., 1961. О культурных связях восточного Прикаспия в позднесарматское время//АСГЭ. Вып. 2/Отв. ред. М.И. Артамонов. Л.: Гос. Эрмитаж. С. 114-140.
- Соломоник Е.И., 1959. Сарматские знаки Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 282 с.
- Спасский Г.И., 1846. Босфор Киммерийский с его древностями и достопамятностями. М. 169 с.
- Стефани Л.Э., 1856. Путеводитель по античному отделению Эрмитажа//Пропилеи. Кн. V/Под ред. П. Леонтьева. М.: Университ. тип. С. 257-336.
- Тайна Золотой маски: каталог выставки Государственного Эрмитажа/Отв. ред. А.М. Бутягин. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2009. 204 с.
- Трейстер М.Ю., 2004. О датировке погребения с Золотой маской в Керчи//Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Т. 1/Отв. ред. В.Ю. Зуев. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 247-258.
- Трейстер М.Ю., 2009. Посуда и предметы утвари из серебра и бронзы//Тайна Золотой маски: каталог выставки Государственного Эрмитажа/Отв. ред. А.М. Бутягин. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 43-62.
- Френкель Я.В., 2009. Бусы из стекла и природных материалов керченского погребения с золотой маской 1837 г.//Тайна Золотой маски: каталог выставки Государственного Эрмитажа/Отв. ред. А.М. Бутягин. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 97-115.
- Храпунов И.Н., 2003. Новые данные о сармато-германских контактах в Крыму (по материалам раскопок могильника Нейзац)//Боспорские исследования. Вып. III/Отв. ред. В.Н. Зинько. Керчь; Симферополь: Крымское отд. Института востоковедения НАН Украины. С. 329-350.
- Шаров О.В., 2001. Блюдо царя Рескупорида из погребения с Золотой маской//Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полиса, образование государства. Т. 1/Отв. ред. B.Ю. Зуев. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 181-185.
- Шаров О.В., 2004. О серебряном блюде Рескупорида с Золотой маской//Боспорский феномен: Материалы 5-й Междунар. конф. Т. 1/Отв. ред. В.Ю. Зуев. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 259-267.
- Шаров О.В., 2006. Золотая Маска из Керчи//Древний Мир/Отв. ред. И. Ладюков. Киев: Виол-Принт. С. 74-76
- Шаров О.В., 2008. О сходстве и различии парадной конской упряжи из погребения с Золотой маской 1837 г. и погребения в Аджимушкае 1841 г.//Боспорский феномен: Материалы X юбилейной Междунар. конф./Отв. ред. В.Ю. Зуев. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 258-262.
- Шаров О.В., 2009a. Погребение с Золотой маской//Тайна Золотой маски: каталог выставки Государственного Эрмитажа/Отв. ред. А.М. Бутягин. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 17-42.
- Шаров О.В., 2009б. Серебряное блюдо с монограммой из погребения с Золотой маской из Керчи//Научные ведомости Белгородского государственного университета. История, Политология. Экономика. Информатика. № 1 (56)/Отв. ред. В.А. Шаповалов. Белгород: БелГУ C. 31-36.
- Шаров О.В., 2009в. Золотая маска из Керчи//РА. № 3. М.: Наука. С. 96-100.
- Шкорпил В.В., 1910. Заметка о рельефе на памятнике с надписью Евпатерия//ИАК. № 37. СПб.: Имп. Арх. Ком. С. 23-35.
- Яценко С.А., 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М.: Восточная литература. 187 с.
- Benndorf O., 1878. Antike Sepulcralmasken und Gesichthelme//Denkschriften der kaiserlischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-histor.Classe. Bd. 28/Hrsg. von O. Benndorf. Wien. S. 301375.
- Dalton О.М., 1901. Katalogue of Early Christian Antiquites and Objetts from the Christian East. London: British Museum. 186 p.
- Ebert М., 1921. Südrussland in Altertum//Bücherei der Kultur und Geschichte. Bd. 12. Bonn; Lepzig: Schroeder. 430 S.
- Eggers H.J., 1951. Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgeschichte, Bd. 1. Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. 212 S.
- Gaidukevič V.F., 1971. Das Bosporanische Reich. Berlin: Akademie Verlag. Amsterdam: Adolf M. Hakkert 604 S.
- Gille F., 1860. Musee de l’Ermitage Imperiale: Notice sur la formation de ce Musee et description de diverses collections qu’il renferme avec une introduction historique sur l’Ermitage de Catherine II. SPb.: L’Akademie Imperiale des Science. 382p.
- Kazanski M., 1995. Les tombes des chefs alano-sarmates du IV-e siecles dans les steppes pontiques//La noblesse romaine et les chefs barbares du III-e au VII-e siecle/Dir. F. Vallet, M. Kazanski. Saint-Germain-en-Laye: Assoc. Fr. d’archeologie. Merovingienne. P. 189-205.
- Kazanski M., Mastykova A., 2003. Les origines du costume «princier» féminine des Barbares à l’époque des Grandes Migrations//Costume et société dans l’Antiquité et le haut Moyen Age/Dir. F. Chausson, H. Inglebert. Paris: Picard. P. 107-120.
- Lepage C, 1971. Les bracelets de luxe romains et byzantins du IIe au VIe siecle. Etude de la form et de la structure//Cahiers archeologiques. № 21. Р. 1-23.
- Linas de Ch., 1878. Les origines de l’orfévrerie cloisonnée, T. II. Paris: Eduard Didron, Charles Klincks-ieck. 510 p.
- L’Or des Sarmates. Entre Asie et Europe. Nomades des steppes dans L’Antiquité: Exh. cat. Abbaye de Daoulas. Paris: Paris-Musees, 1995. 141p.
- Minns E., 1913. Scythians and Greeks. Cambridge: Univ. press. 720 p.
- Musche B., 1988. Vorderasiatischer Schmuck zur Zeit der Arschakiden und der Sasaniden. Leyden; New York; Copenhauge; Cologne: Brill. 350 S.
- Notte L., 1989. Les seaux de Hemmoor en France et en Europe//Amphora, 58. Bruxelles. P. 1-44.
- Pröttel P.M., 1988. Zur Chronologie der Zwiebelknopffibel//Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Jhrg. 35, Th. 1. Mainz: Verlag des RGZM. S. 347-371.
- Raev B.A., 1977. Die Bronzegefässe in Thrakien und Mösien//Berichte der Römisch-Germanischen Komission. Bd. 58/2. Frankfurt am Main. S. 605-642.
- Raev B.A., 1986. Roman Imports in the Lower Don Bassin. Oxford: BAR. 135 p. (BAR; Int.Ser. 778.)
- Reinach S., 1892. Antiquites du Bosphore Cimmerien. Paris: Firmin-Didot. 213 p.
- Ross M.S., 1965. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquites in the Dumbarton Oaks Collection. Jewellery, enamels and Art of the Migration Period. Vol. 2. Washington: Dumbarton Oaks. Center for Byzantine Studies. 274 p.
- Rostovtzeff M., 1923. Une trouvaille de l’epoque Greco-Sarmate de Kerch//Momumente et Memoriam. T. XXVI. Paris: E. Leroux. Р 99-163.
- Šarov O., 1994. Ein reiches Pferdegeschirr aus Kerč//Beitrage zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlischen Jahrhunderten/Hrsg. Cl. Von Carnap-Bornheim. Marburg: Wachholtz Verlag. S. 417-428.
- Šarov O, 2003. Gräber der sarmatischen Hochadels am Bospor//Kontakt-Kooperation-Konflikt Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und 4. Jahrh. nach Christus/Hrsg. Cl. Von Carnap-Bornheim. Marburg: Wachholtz Verlag. S. 35-64.
- Sharov O., Kazanski M., 2006. Les Rois au Masque D’Or//Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Des les Goths aux Huns. Le nord de la mer noire au Bas-empire et a l’epocue des grandes migration. Archaeological Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (400-1000 A. D.). BAR. № 1535. Oxford: John and Erica Hedges. Р. 93-100.
- Strong D., 1966. Greek and Roman Gold and Silver Plate, London: Methuen. 235 p. 35 pl.