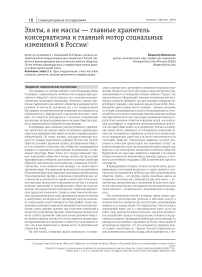Элиты, а не массы - главный хранитель консерватизма и главный мотор социальных изменений в России
Автор: Шляпентох Владимир Эммануилович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социокультурные исследования
Статья в выпуске: 3, 2010 года.
Бесплатный доступ
Автор не соглашается с концепцией В.А.Ядова, согласно которой развитие модернизационных процессов в России тормозится доминирующими ценностями российского общества. По его мнению, решающую роль в модернизции страны должна играть политическая элита
В.а. ядов, модернизация, элита, массовое сознание, ценности, влияние ценностей на модернизацию
Короткий адрес: https://sciup.org/142181873
IDR: 142181873
Текст научной статьи Элиты, а не массы - главный хранитель консерватизма и главный мотор социальных изменений в России
Введение: теоретическая перспектива
Отталкиваясь от интереснейшей статьи Владимира Ядова "К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества"2, я хочу показать, что с помощью культурологических концепций невозможно объяснить главные проблемы современного российского общества и направление его развития. В частности, положение дел с его модернизацией. Как правило, культурологические концепции основываются на общепринятом в американской социологии постулате, гласящем, что общество регулируется в основном социальными ценностями, интернализированными членами общества в процессе первичной или вторичной социализации.
Я принимаю здесь наиболее распространенное определение ценностей, как мерило важности объектов окружающего мира и как характеристику важности целей, индивидуальных и общественных. По моему мнению, культурологический подход (его главным теоретиком в середине 20 века стал Толкотт Парсонс) искажает реальный процесс регулирования общества и не объясняет полностью, как в обществе поддерживается порядок и сохраняются существующие политические и социальные структуры. Равно плохо этот подход объясняет процесс изменений в обществе и мешает понять, как происходят трансформации в обществе, как меняются основные структуры общества: политическая, экономическая, социальная и технологическая, и как меняется сама культура с ее ценностями и картинами мира. Эти изменения происходят под воздействием объективных факторов (динамика экономики и уровня жизни, технологический прогресс, изменения геополитических обстоятельств) и деятельности старой и новой элиты. Роль исходных массовых ценностей в сохранении статус-кво и в возникновении изменений и трансформации общества намного меньше, чем предполагают культурологи. Старинная марксистская парадигма изменений с тремя ее известными компонентами (производительные силы, производственные отношения и надстройка), несмотря на ее чрезмерный упор на экономику и недооценку самостоятельности "надстройки", более продуктивна в изучении социальной динамики, чем культурологические схемы, ищущие причину или отсутствие изменений в ценностях, разделяемых массами. Существующие ценности не могут служить причиной стабильности или динамики общества главным образом потому, что они не являются независимыми переменными по отношению к обществу, а сами зависят от того, что в нем происходит, и, прежде всего, от действий элит, старых или новых.
На мой взгляд3, поведение людей, вербальное и матери- альное, прежде всего, регулируется внешними нормами и правилами. Ценности же часто выступают в виде инструмента рационализации того поведения, которое навязано "сверху", как идеологическое "оформление" внешних позитивных или негативных стимулов, примерно так, как описывал поведение людей Беррес Скиннер, а еще намного раньше Томас Гоббс. Несоблюдение норм и правил влечет санкции — прямые наказания, от потери вознаграждения и шансов на продвижение до потери работы и уголовного наказания, включая лишение свободы или даже жизни. Поэтому страх перед санкциями является гораздо более мощным стимулом поведения людей, чем моральный дискомфорт от нарушения интернализованных ценностей, который также влияет, но в умеренной степени на поведение людей. Люди, зависимые от поощрений и наказаний начальства и ближайшего окружения, не могут быть инноваторами по определению, равно как и не несут ответственности за стагнацию общества. Стахановское движение, которое описывалось советской пропагандой как возникшая "снизу" народная инициатива, было организованной сверху акцией, как, впрочем, и все новаторские начинания в советском обществе. Практически все массовые движения в Америке в последние полвека возникли по инициативе не рядовых граждан, а активистов, получивших поддержку СМИ, политических партий и государства.
Я придерживаюсь теории, согласно которой элиты, распоряжающиеся ключевыми ресурсами в стране, являются главным агентом изменений в любом когда-либо существовавшем обществе. Элиты — это группы людей, способных влиять на поведение и сознание масс. Выделяются три типа элиты — политическая, экономическая, и культурная. В известном смысле эта типология близка к неомарксистскому выделению трех типов капитала — политического, экономического и культурного.
Под политической элитой я понимаю группу людей, принимающих стратегические решения и имеющих доступ к кнопкам власти и контролю над институтами, оказывающими влияние на сознание людей. Это определение относится как к властвующей элите, так и к оппозиционной элите, если она имеет свои институты идеологического (включая религиозное) воздействия на массы и определенные позиции в государственном аппарате. Правящая политическая элита невелика по размерам и насчитывает в принципе не более сотни людей. В авторитарном обществе тот, кто оказывается у вершины власти и имеет монополию на главные "кнопки" управления: армия, политическая полиция и медиа, имеет возможность, с уче- том всевозможных ограничений, включая настроения масс, коренным образом изменить состояние общества. Общенациональная и локальная бюрократия элитой не является и выступает как инструмент режима.
Известной автономией обладают экономическая и культурная элиты. В авторитарном обществе эта автономия минимальна, в демократическом — весьма значительна. Это особенно касается экономической элиты, управляющей экономикой. Ее автономия в демократическом обществе может достигать такого уровня, что главы больших корпораций превращаются в феодальных лордов, соперничающих с политической элитой. Культурная элита, которая профессионально занимается созданием и распространением знаний и идеологии, в авторитарном обществе в целом служит политической элите, хотя всегда включает в себя оппозиционные власти элементы. В демократическом обществе ее оппозиционность существенно возрастает, хотя и здесь она служит политической элите, правящей или оппозиционной, и экономической, — способной оказывать огромное воздействие на медиа.
Только элиты, властвующие и оппозиционные, и прежде всего политические, инициируют организационные изменения в обществе, одновременно предпринимая меры для изменения, используя культурную элиту, системы ценностей населения, в первую очередь среди активной части общества — молодежи и образованных людей. Атаки на старые ценности, как правило, всегда удаются, даже если меньшинство населения оказывается для элиты "твердым орешком" и продолжает разделять старые ценности. В терминах марксистской парадигмы, процитированной выше, элиты представляет ту "надстройку", которая не столько меняется под влиянием "базиса" (это утверждается ортодоксальным марксизмом), сколько сама меняет и "базис", и даже "производительные силы", ускоряя или замедляя их развитие.
Отрицая ключевую роль массовых ценностей в развитии общества, я настаиваю на огромной роли ценностей, в том случае, если их разделяют члены политической элиты и те, кто ее обслуживает, а также те, кто причастен к управлению людьми и к формированию их сознания: журналисты, преподаватели вузов и школ, социальные исследователи. Ценности "активистов" в управлении обществом, их интеллектуальные и эмоциональные инвестиции намного устойчивее, чем ценности рядовых людей. Знаменитый феномен "старых большевиков", открытый Солженицыным в "Гулаге" (старые партийцы, умирая в лагере, оставались верными не только марксизму, но и персонально Сталину) иллюстрирует эту мысль.
Однако для большинства людей характерна очень большая подвижность ценностей. Я возражаю против тенденции культурологов преувеличивать стабильность ценностей, даже если они передаются из поколения в поколение. Ведь каждое новое поколение может быстро усвоить ценности, отличные от ценностей их родителей, оказавшись в другом социально-политическом контексте, например, в результате революционных изменений на родине или оказавшись за рубежом.
В моем понимании массовые ценности воспроизводятся главным образом потому, что в этом заинтересована господствующая "старая" элиты. Конечно, если эти элиты на протяжении столетий втолковывали массам одни и те же ценности, например, страх перед государством, ксенофобию и пренебрежение к личности, то эти ценности, передаваясь из поколения в поколения, выглядят почти как генетические, и затраты, которые должны произвести элиты, решившие менять общество, должны быть многократно выше, чем в тех случаях, когда идет речь об относительно "временных" ценностей: Ельцин и Путин с легкостью уничтожили уважение к демократическим институтам, которое насаждалось только со времен Перестройки.
Подход к изучению общества, развиваемый в данной статье, находится в ортогональном отношении к господствующей среди многих западных социологов постмодернистской ме- тодологии, которая тяготеет к описанию социальных процессов, как бы формируемых "снизу" в результате деятельности суверенных индивидуумов, свободно выбирающих буквально все свои характеристики — от политических взглядов и способов описания мира и религии до пола и этноса.
Концепция В.А. Ядова
В упомянутой выше статье Ядов размышляет о месте России в мире и о том, от чего зависит характер российского исторического процесса. Из двух доминирующих парадигм в современной социологии — "активистской " и "культурологической" с упором на "национальные особенности" — Ядов выбирает первую. Сторонники первой парадигмы, по Ядову, "концентрируют внимание на пусковом механизме изменений — агентах, которые, подобно тому, как это имеет место в химической реакции, запускают процесс". Сторонники второй парадигмы, если упростить их точку зрения, утверждают, что в каждом обществе завтра будет то же, что и сегодня, потому, пишет Ядов: "исторически пройденный путь является чуть ли не краеугольным камнем" будущего народов и государств в миросистеме.
Поразительно, что Ядов, заявив о своей приверженности к активистской парадигме (правда, в примечании), по сути, забывает ее в своем дальнейшем тексте и увлекается компаративистской культурологией (называемой им парадигмой "национальных особенностей") в поисках характеристики той "колеи", по которой движется Россия и "из которой непонятно можно ли выйти", как сетует процитированный Ядовым Александр Аузан.
Ядов присоединяется к тем многочисленным авторам, которые после 2000-го года (в отличие от авторов 1990-ых, делавших акцент на роли агентов изменений) стали полагать, что главные проблемы модернизации страны лежат в российской культуре. Культурология "нулевых годов" доказывает бесперспективность борьбы с коррупцией и произволом чиновников, потому что "так всегда было" — удобнейшая позиция для обоснования конформизма и политической пассивности. Неудивительно, что теорию о вечности коррупции в России разделяют и часть оппозиции, и правящая партия, сомкнувшись в согласии, что статус-кво невозможно поменять. Некоторые либералы, вопреки очевидным фактам, доказывают, что коррупция "при коммунистах" была, по крайней мере, не ниже, чем в постсоветской России.
Между тем, я постараюсь показать, что именно деятельность элит в гораздо большей степени, чем культурные традиции, определяет будущее России.
Данные Ядова о влиянии российских ценностей на модернизацию
Ядов обосновывает свой культурологический подход к объяснению трудностей модернизации в России ссылками на данные многочисленных опросов:
-
✓ По данным В. Магуна и М. Руднева, "россиянам свойственна более высокая потребность в защите со стороны государства", и у них "менее выражены потребности в свободе и самостоятельности, склонности к риску", чем у населения западноевропейских стран.
-
✓ Согласно исследованиям по методике Р Ингельгарта, население России, как и других бывших стран СЭВ, отличается от населения стран Западной Европы доминированием ориентации людей на материалистические ценности, а не постматериалистические.
-
✓ По утверждениям Н.М Лебедевой (данные не приводятся), "посткоммунистические общества лежат намного ниже, чем другие, по шкале доверия, толерантности, ценностей самовыражения".
-
✓ Из исследований Е. Ясина (эмпирические данные не приводятся) следует: "по важнейшим направлениям произошел откат назад… культурные предпосылки модернизации
ухудшились".
✓ Сотрудниками Института социологии РАН установлено, что за 2004 — 2007 гг. доля выбирающих ценность свободы сократилась с 26% до 20%, а доля сторонников сильного государства увеличилась с 41% до 47%.
✓ "Заслуживают серьезного внимания исследования Н. И. Лапина", пишет Ядов. Он пришел к выводу, что для россиян характерен "толерантный симбиоз культурно разнородных ценностей" как рациональный ответ жизненных миров россиян на аксиологический вызов трансформирующегося общества и этот симбиоз "не является роковым препятствием для модернизации российского общества, а наиболее значимое ее препятствие коренится в отсутствии сетевых институтов саморазвития, прежде всего — инновационных".
✓ Согласно данным Касьяновой, "россияне зашкаливают по тесту "циклоидность". В переводе с языка психоаналитиков на общепонятный, это означает, что мы не склонны к систематически выполняемой деятельности, независимо от настроения".
Молчаливые допущения Ядова
Тщательное сравнение ценностей населения России и других стран, выявление роли отдельных типов ценностей имели бы центральное значение для решения той задачи, которую Ядов поставил перед собой: изучение условий модернизации в России, в том случае, если бы базовые допущения, которые Ядов молчаливо предполагает правильными, были таковыми.
Первое допущение. Ценностные ориентации и ментальность народа в целом выступают как независимые и достаточно стабильные переменные, а вовсе не являются продуктом быстрых изменений в обществе (технологических, экономических, социальных) и, что особенно важно, целенаправленного воздействия власти и новых обстоятельств, создаваемых властью.
Второе допущение. Поведение людей "согласуется с собственными ценностными ориентациями", и это поведение эмпирически влияет на процессы в стране, что и предполагает важность изучения ценностей для выяснения темпов модернизации. Я не поднимаю вопрос о достоверности данных, приводимых Ядовым. Многие из них, в том числе данные международного исследования Ингельгарта, сомнительны, ибо ответы респондентов находятся под сильным влиянием такого феномена как desirable values и воздействия властей. Другими словами, люди отвечали согласно официальным ценностям общества. Например, Ингельгарт, принимает "за чистую монету" ответы китайцев на весьма политизированные вопросы.
Если же эти главные допущения Ядова теоретически и эмпирически не обоснованы, то вряд ли изучение степени близости русской ментальности к западноевропейской, как это выявляют далекие от надежности опросы, может объяснить то, что происходит в российском обществе, и объяснить, почему темпы его модернизации не устраивают многих, в том числе и президента страны.
Сравнение массовых ценностей и индикаторов модернизации: вторжение здравого смысла
Между тем, есть почти абсолютный консенсус на тему того, чем измеряются темпы модернизации в России. Для выявления перечня индикаторов и задач модернизации России проще всего взять известную статью президента Медведева «Вперед, Россия!» (10.09.09) или материалы Института Современного Развития, считающегося "мозговым трестом" президента4. Теперь зададимся вопросом — какие же ценности, которыми опе- рируют социологи, цитируемые Ядовым, могут оказать прямое влияние на задачи модернизации, поставленные президентом. Неужели они могут повлиять на "экспорт уникальных технологий, энергоэффективность и производительность труда или разработку новых видов топлива"? Или, быть может, они могут воздействовать на "уровень ядерных технологий или совершенствование информационных технологий"? Или на "подготовку средней и высшей школой достаточного количества специалистов для перспективных отраслей". Или на "концентрацию усилий научных учреждений на реализации прорывных проектов" вместе с "приглашением на работу лучших ученых и инженеров из разных стран мира"?
Но обратимся теперь к чисто социальным проблемам. Только те исследователи, которые игнорируют российскую реальность и существующие возможности масс принимать реальное участие в политической жизни страны, могут утверждать, что решение таких задач, как "создание предельно открытой политической системы, динамичной, подвижной, прозрачной и многомерной социальной структуры, политической культуры свободных, обеспеченных, критически мыслящих и уверенных в себе людей, современного эффективного суда", зависят, прежде всего, от таких массовых ценностей, как соотношение материалистических и постматериалистических ценностей или характера "симбиоза культурно-разнородных ценностей".
Несомненно, традиционные образцы мышления и поведения способствуют воспроизводству той социально-политической системы, которая господствует в обществе. Именно она помогает сохранять тот строй, который "нравится" властям. Культурные традиции работают на элиту, желающую сохранить статус-кво, будь это Россия, США или Саудовская Аравия. Даже ценности, стимулирующие изменения повседневной жизни, в таком динамичном обществе, как американское, довольно-таки слабые. Сам по себе культ индивидуализма не предполагает автоматического стремления к переменам. Потребность нововведений приходит в массовое сознание не потому, что оно жаждет изменений, а потому, что это навязывается технологическим прогрессом (мобильные телефоны вошли в жизнь всего мира — от африканских деревень до Манхэттена — не из-за жажды граждан в переменах). Так же необходимость изменений диктуется стремлением к выживанию в условиях конкуренции (экономической или геополитической) или навязывается активистами, агентами, элитой.
Вот тут мы подошли к главному тезису этого текста, да и к главной претензии к статье Ядова. Упомянув, что он предпочитает активистскую парадигму культурологической, Ядов затем не возвращается к первой из них.
Главный агент изменений общественного сознания — политическая элита
Как элиты, правящая и оппозиционная, меняют ценности в массовом сознании
Поразительно, как культурологи, настаивая на традиционных ценностях, почти полностью игнорируют роль господствующей элиты в поддержании и формировании ценностных ориентаций населения. Между тем, у элит, особенно у правящей, имеется в распоряжении мощный арсенал средств для насаждения той системы ценностей, которую они считают необходимой для себя и общества.
Средства идеологического воздействия.
Прежде всего. укажем на средства массовой коммуникации, институты образования, все виды искусства и литературы. Нынешняя российская элита использует эти средства для внедрения в сознание россиян того, что Запад и особенно Америка, есть враг России, или что только авторитарные методы хороши для страны. В США элиты используют эти же средства для внушения важности борьбы с международным терроризмом и с расовой дискриминацией или для поддержки инвалидов и борьбы с курением. В обоих случаях успех элиты в формировании общественного мнения очевиден. Не удивительно, что для тоталитарного государства монополия на СМИ и образование было первостатейной задачей с момента возникновения режима в любой стране. Не случайно, что обамовская администрация была в бешенстве от консервативного телевизионного канала Фокс и даже пыталась предпринимать различные меры для его дискредитации.
Вознаграждение и страх санкций
Однако есть еще более эффективный фактор, обеспечивающий внедрение соответствующих ценностей в сознание масс. Это система материального и нематериального вознаграждения и санкций (страх) за отклонение в поведении и публичных высказываниях от принятых элитой стандартов.
Если ученый, высказывающийся, скажем, против политической корректности в США, не имеет возможности найти работу в университете, то этот факт как сигнал воспринимается всеми аспирантами, жаждущими академической карьеры. Можно не сомневаться, что подавляющее большинство из них не только откажется от противоречащих соответствующим ценностям действий или слов, но и почти мгновенно внедрит эти ценности в собственное сознание, и будет доказывать своим близким их правильность. Я был поражен тем, что мой американский помощник, исповедавший политическую корректность сильнее, чем правоверный аспирант на кафедре истории партии в 50-ые годы в СССР, начал называть свою молодую жену "партнером", ибо феминисты, с их огромным влиянием на кафедрах социальных наук, нашли, что термин "супруга" попахивает мужским шовинизмом.
Если российские журналисты видят, что их коллеги с про- американскими взглядами не имеют шансов получить доступ к экрану главных телевизионных каналов, то большинство из них не только согласятся делать то, что одобряют власти, но и трансформируют свое сознание и будут предсказывать Америке скорую гибель и повторять свои прогнозы друзьям за стаканом водки (виски). Если начальство на разных уровнях стало ходить в церковь и просить священников освящать помещения, то через короткий период времени число людей, уверяющих себя и других, что они истинно православные, возрастет в геометрической прогрессии.
Новые объективные обстоятельства, быстро меняющие ценности
Новые условия жизни, созданные стихийно или прямыми усилиями элиты, стремительно сами по себе меняют ценности россиян, но опять-таки элиты выступают в качестве инструмента этих изменений.
Ядов ссылается на данные Магуна и Руднева, показывающие, что "россиянам свойственна более высокая потребность в защите со стороны государства, менее выражены потребности в свободе и самостоятельности, склонности к риску ", чем населению западноевропейских стран. И опять-таки здесь причина и следствие меняются местами. Вполне естественно, что россияне, живущие под постоянным давлением произвола государства и беззакония, мечтают о том, чтобы быть защищенными от него; исследователями это воспринимается как причина того, что государство играет огромную роль в жизни общества. Да и сами СМИ в последнее десятилетие (в противоположность 1990-ых) с их пропагандой "государственности" и возвеличиванием лидеров, которые выступают как носители государственного начала (вспомним действия В. Путина в Пикалево) способствовали возродившемуся культу государства как главной "скорой помощи" простым людям.
И вполне естественно, что в условиях отсутствия стабильных правил в экономике граждане Российской Федерации не склонны, будучи здравыми людьми, предаваться опасным экспериментам. Опять-таки российские СМИ и выступления официальных лиц на протяжении десятилетий вместе с многочисленными сериалами типа Бандитский Петербург, Бригада или Школа (если взять наиболее удачные) способствовали внедрению в сознание масс (в добавлении к их собственному опыту) картины общества, в котором мошенники и бандиты правят бал. Сравните с советской пропагандой и советскими фильмами, рисовавшими благостную картину мира, в которую верило большинство граждан, даже в тех небольших городах, где царила преступность.
Как элиты в советское время быстро и коренным образом меняли ценности населения
Российская история 20-го века является замечательной иллюстрацией вышеприведенного тезиса и убедительно опровергает взгляд о "непробиваемой ментальности русского народа".
Начнем с победы советской власти после Октябрьской революции. За короткий исторический период большевики сумели существенно разрушить такие ведущие ценности дореволюционного общества, как частная собственность, религия, ксенофобия, включая антисемитизм, и создать уважение к таким ценностям, как социализм, коллективизм, общественная собственность, плановая экономика, дружба народов, партия, наука и ряд других. Большевики полностью изменили в сознании большинства отношение к дореволюционной истории и создали свои иконы вроде Октябрьской революции, гражданской войны, Ленина.
А с какой легкостью Сталин в 1940-50-е годы внедрил в сознание масс русский шовинизм и антисемитизм! В течение короткого исторического времени интернационалистическая идеология была вытеснена новой, прямо противоположной. Подавляющее большинство русских стало исповедовать новые взгляды на национальные отношения не только на партийных собраниях, но и дома на кухне с самыми близкими друзьями. И от души рассказывали друг другу антисемитские анекдоты. (Я уверен, что сейчас в России, когда Путин явно отверг антисемитизм как государственную политику, злобные антисемитские анекдоты играют второстепенную роль в саунах, которыми пользуются знатные люди страны). И без труда Кремль внедрил в массовое сознание абсолютно новую трактовку русской истории, которая полностью ликвидировала тот ее вариант, который преподавался в 20-ые годы.
После 1985-го года М. Горбачев и либералы (а до этого оппозиционная элита в 1960-ые) произвели новую революцию ценностей в обществе. Они сумели существенно подорвать уважение к общественной собственности и плановой системе, к государству, силам безопасности, армии и внушить значительной части населения почтение к универсальным ценностям, сурово преследуемым советской властью — демократии и рыночной экономике, политическим свободам и частной собственности. Опять был произведен почти полный пересмотр отечественной истории, принятый значительной частью общества.
С установлением режима Путина произошло очередное изменение структуры ценностей населения. Существенно выросла значимость таких позитивных и негативных ценностей, как главенствующая роль государства в жизни общества, вера в величие России и ее ключевую роль в мировой политике, вера в особый путь исторического развития России и в авторитаризм как наиболее приемлемую форму российского политического устройства, презрение к западной политической модели и к демократии, ненависть к Америке и соседям — бывшим советским республикам и бывшим союзникам (Украине, Грузии, Польше в первую очередь).
Быстрое изменение ценностей под давлением элит в других странах
Активная роль элиты в изменении структуры ценностей является универсальным явлением. Самый разительный пример из новейшей истории — это трансформация ценностей в послевоенной Германии и особенно Японии, которая была успешно осуществлена за короткий срок оккупационной администрацией. Действительно, сейчас трудно встретить японского или иностранного автора, который бы отрицал, что американская военная администрация создала новый менталитет в Японии. Но это не отрицает сохранения многих элементов традиционной японской культуры и не мешает тому, что демократические ценности прочно вошли в ментальность населения страны.
Изменение ценностной структуры населения под давлением элит происходит почти непрерывно в США и Европе. В короткий период под влиянием государственных учреждений, СМИ, школы и колледжей, кино американцы и европейцы изменили свои взгляды на меньшинства, расовые отношения, положение женщин в обществе, экологию, брак и секс.
Можно привести много других примеров, показывающих как быстро лидеры могут и обновить общество, и почти полностью его погубить. Первый тезис могут иллюстрировать события в штате Бихар. Этот индийский штат был символом глубокой экономической и культурной отсталости в стране. Уровень преступности и коррупции был одним из самых высоких в Индии. Однако, когда в 2005 к власти прорвалось новое руководство, которое устранило от власти коррумпированного политика, правившего штатом 15 лет, в штате произошло индийское "чудо". Преступность и коррупция были резко снижены, а экономический рост сделал Бихар вторым в стране штатом по экономическому прогрессу11.
C другой стороны, режим Роберта Мугабе был способен в конце прошлого века превратить относительно процветающую страну Зимбабве в общество ужасов, террора и нищеты, уничтожив экономику, здравоохранение, образование. Рядом с этой страной, находится Ботсвана, небольшая страна c той же культурой и с теми же традициями, которую правящая элита превратила в модель успеха для всего континента12.
Еще более разительный пример, ибо идет речь о ведущей европейской стране, представляет Италия, в которой президенту Сильвио Берлускони и одновременно владельцу главных каналов телевидения удалось за одно десятилетие почти разрушить демократические институты страны. Он сумел сделать итальянскую судебную систему беспомощной и неспособной привлечь его к ответственности за очевидную коррупцию в огромных размерах, и он заставил парламент принимать законы, обеспечивающие ему полный иммунитет. Он без особых проблем "избрал" в парламент дюжину женщин свободного поведения и его любовниц, а также своих адвокатов, докторов и бухгалтеров. Итальянские журналисты назвали нынешнюю политическую систему в стране "проститутократией" и не видят, как страна может от нее избавиться. Тот факт, что при Берлускони страна стала быстро деградировать (в 2007 году итальянская экономика росла медленее, чем в других 29 стран Европейского Союза), не создало никакой серьезной угрозе режиму13.
Два государства с общим культурным прошлым и разными социальными системами
Специальный удар по культурологии подготовила история, создавшая в послевоенный период две Германии, две Кореи, два Вьетнама и два Китая. С какой поразительной быстротой система ценностей двух обществ с одними и теми же традициями, дрейфовала друг от друга! Когда западные и восточные немцы в 1989 году встретились друг с другом, они не могли поверить, что у них общее многовековое прошлое, хотя, наверное, и обнаружили некоторые общие элементы в их поведении. Руководство ГДР и условия жизни в тоталитарном обществе создали одну систему ценностей, в то время как американская военная администрация — другую.
Реальные изменения институтов — дело только правящей элиты
Индуцирование новых ценностей в массовое сознание делается элитами, и, прежде всего, правящей политической элитой, для того, чтобы осуществить реальные изменения в жизни общества — уничтожение старых институтов и создание новых. Вряд ли кто-либо будет спорить, что советское общество с его новыми институтами было создано большевистской элитой за удивительно короткий срок. По сути, советская система, как она сформировалась в первые пять лет после Октября, существенно не менялась. Да и те изменения, которые происходили в советском обществе после 1953-го года, всегда были делом рук тех, кто имел доступ к кнопкам власти. Все изменения в российском обществе после 1991-го года были только результатом действий Кремля: от внедрения рыночных цен до отмены выборов губернаторов.
Неверно полагать, что в демократических обществах инициирование изменений происходит "снизу", демократическим образом. На самом деле, разница между авторитарной и демо- кратической системами состоит в том, что в одном случае народ прямо не может влиять на решения элит, в другом случае — народ с помощью голосования одобряет или отвергает предлагаемые изменения сверху, идущие от политической, экономической и культурной элит.
Роль элит и избирателей в иниционировании изменений в США очень интересно наблюдать именно сейчас, в 2010-ом году, когда Белый Дом пытается изменить здравоохранение в стране. Никто в Америке в этот период не обсуждал, какова склонность американцев к изменениям, и не изучал их ценности, как делали авторы, цитируемые Ядовым, всматриваясь в ценности россиян для понимания того, почему в стране не идет модернизация. Большинство американцев были или против реформы или относились к ней очень скептически. Движение "снизу", так называемая "партия чаепития", была решительно против реформ. По сути, реформа была одобрена благодаря активности Белого Дома и руководства Палаты Представителей вопреки воле большинства американцев. Все другие важные нововведения в американской жизни в последние десятилетия (защита прав меньшинств и женщин при принятии в университеты и на работу, защита прав инвалидов, борьба с курением и жирной пищей и многое другое) были результатом деятельности правящей либеральной элиты страны.
Откуда политическая элита
Нет более неверного и несправедливого утверждения, чем "каждый народ заслуживает своего правительства", и "каков народ, такова и элита". Многие российские авторы, цитируемые мною, прямо или косвенно склоняются к этой точке зрения. Она находит поддержку и у ярых либералов, таких как Леонид Радзиховский или Валерия Новодворская, и у откровенных апологетов Кремля, таких как Глеб Павловский или Сергей Марков.
На самом деле, всякая элита, политическая в том числе, по определению не представляет народ. Взять, например, социально-демографические характеристики политической элиты. Ни в одной стране элита даже близко не похожа на население страны, какой бы показатель не взять — образование, пол, национальность, профессиональный опыт, родители, имущество, вкусы и все остальное. Это справедливо не только для наследственной элиты (некоторые неверно считают, что нет элиты без наследственности), но и для новой элиты. Люди, которые добрались до большой власти, даже если они римские вольноотпущенники или дети рабочих и крестьян, отличны радикальным образом от своих сверстников в детстве и школе — по уровню энергетики, морали или интеллекта. (Смешной факт — поразительное долголетие сталинских членов Политбюро — Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова и других). Трудно утверждать, что большевистское руководство хотя бы отдаленно напоминало среднего россиянина. Даже стабильная брежневская элита никак не могла быть представлена как выборка из населения страны. Это же справедливо и для постсоветской элиты. Среди членов элиты при Путине, согласно расчетам О. Крыштановской, в 2002-ом году было 100% лиц с высшим образованием, 21% имеющих ученую степень, 27% с военным образованием, 23% получивших образование в элитных вузах, 21% земляков главы государства14. Да и тех, кто пришли к власти в 1991-ом году, также нелепо отождествлять с населением страны.
Несомненно, культурные традиции семьи, школа и улица будут оказывать влияние на ментальность будущего члена элиты и на его язык; это хорошо видно на примере Путина или Черномырдина. Но как только люди оказываются у власти, они резко отталкиваются от той среды, в которой они проходили так называемую социализацию, хотя ее влияние нельзя просто сбросить со счетов.
Так как в этом тексте идет речь об изменениях, то наше внимание привлекает в первую очередь новая элита, сформировавшаяся после больших политических событий. Происхождение новой политической элиты бывает разным, она часто оказывается смесью представителей старой элиты и новых людей. Пропорции этой смеси крайне важны для общества, потому что носителем изменений все-таки в первую очередь являются люди с иным прошлым, чем представители старой элиты. Особое значение имеет вопрос о том, кто именно окажется во главе государства — человек из прошлой элиты или тот, кто с ней воевал. То, что во главе новой России стал Ельцин, оказалось, в конечном счете, роковым для демократизации общества. Он не только разогнал демократически выбранный парламент, не только не сожалел об этом акте, как негативном для демократического процесса, но и организовал свое переизбрание в 1996-ом году, используя свой "административный ресурс". Не говорю уже о том, что он властвовал, как авторитарный лидер, готовый разогнать Думу при малейшей опасности для его власти. Это Ельцин, а не Путин определил вектор России в политическом развитии и, по сути, направил страну на путь разнузданной коррупции.
Известный тезис, приписываемый разным авторам, о том, что каждый народ заслуживает свое правительство, обычно аргументируется ссылками на большевистский и нацистский режимы. Действительно, в обоих случаях к власти пришли люди, которые воспользовались недовольством масс существующим положением. Однако ни русские, ни немцы не делегировали новым лидерам ни проведение коллективизации, ни массового террора или Холокоста. Как только лидеры в обеих странах получили в свое распоряжение власть, они сделали ее неограниченной и получили возможность проводить политику в соответствии со своими идеалами и с помощью страха и монополии на идеологии могли обеспечить поддержку населения. Не делегировали русские, когда избирали Ельцина и соглашались на кандидатуру Путина, распространение коррупции и произвола бюрократии.
Мотивация элиты
Конечно, можно исходить из того, что все члены новой элиты хотят наслаждаться как можно дольше властью и теми привилегиями, которые она обеспечивает. Правда и то, что элиты не равнодушны к своему национальному и международному престижу и к своему месту в истории. Однако члены элиты существенно отличаются друг от друга способами, которыми они хотят достичь свои цели.
Если говорить только о новой элите, которая впервые пришла к власти в посткоммунистический период в России, то в ней можно выделить три категории людей: чистых "карьеристов", враждебных всему, что представляет опасность их власти, экономических реформаторов и демократов.
Огромную роль играет идеологическое прошлое членов новой элиты. Если до появления у власти люди были вовлечены в деятельность по защите своих идеалов и подвергались преследованиям за это, если в обществе их имена ассоциированы с борьбой за эти идеалы, то существует большая вероятность, что, появившись у власти, они будут их защищать с теми или иными коррективами, а не откажутся от них. Как бы не характеризовать большевиков, большая часть из них была идеалистами и хотела перевернуть мир, рискуя своей жизнью, как до революции так и после, во время гражданской войны. (При- мер из современной Америки: многие демократы голосовали в конгрессе за реформу здравоохранения Обамы в марте 2010, хотя это очевидно грозило им поражением на предстоящих выборах в ноябре 2010).
Среди зародившейся после 1991-го года элиты было не много истинных энтузиастов создания нового российского демократического общества, но было больше тех, кто был озабочен созданием рыночной экономики, рассматривая демократизацию как ее побочный продукт. Концентрация только на экономических преобразованиях существенно уменьшает риск потери власти в случае демократизации. Посмотрите, какова динамика элит в Восточной Европе после падения коммунизма, где экономические и политические преобразования шли рука об руку. И сравните с Россией, где новая элита сравнительно мало менялась после 1991-го года, что подтверждает правильность ее курса "для себя" — к экономическим реформам, но не политическим. Отсюда и популярность у российской элиты "китайской модели": жесткое сохранение политической власти в комбинации с экономическими преобразованиями.
По сути, в России победу среди новой элиты одержала чисто "материалистическая", карьеристская ориентация, лишенная всякой идеологии инноваций. Большинством членов руководства общества стали люди, озабоченные только своей властью и обогащением. В элите оказались либо бывшие аппаратчики, начиная с члена Политбюро Ельцина, либо рядовые научные работники или новые предприниматели. По данным О. Крыштановской, 70% элиты в постсоветской России были выходцами из партийного и советского аппарата15. Необычайно высокой, по сравнению со странами Восточной Европы, оказалась доля "красных директоров" среди владельцев новых предприятий (10% против 2% в Чехии, Польше и Венгрии)16.
Ни один бывший диссидент не был допущен в руководство страны — поразительный контраст с тем, что произошло в Восточной Европе после победы "бархатных революций", когда к власти пришли люди, такие как Валенса и Гавел. А ведь сам Гайдар, знамя экономических реформ, был не только активным сотрудником ведущих партийных органов «Коммунист» и «Правда», но и партию покинул только в 1991 году. Уж точно он, находясь на кремлевском снабжении, не принадлежал даже отдаленно к диссидентскому движению. Даже активисты Перестройки играли очень скромную роль в высшем руководстве страны при Ельцине. Участие Галины Старовойтовой в качестве советника президента Ельцина — единственный, слабо опровергающий наш тезис пример. При Путине обе группы людей, которых можно было считать носителями каких-либо идеалов — рыночных или демократических — начисто исчезли из правящей элиты. Его имперские и националистические лозунги, используемые для своей легитимизации, были по сути фальшивыми, ибо его реальная политика резко противоречила имперской идеологии17.
При отсутствии в новой посткоммунистической элите даже небольшой группы людей с демократическим прошлым движение страны в сторону от демократии было предрешено. Два обстоятельства сыграли решающую роль. Во-первых, даже та группа людей в правящей элите, которая хотела реализовать свои прежние идеалы, видела свою главную задачу в модернизации экономики и рассматривала задачу демократизации страны как второстепенную, декларировав (как Е. Гайдар или А. Чубайс) свою приверженность к ней. Большая часть элиты, включая экономических реформаторов, пришла во власть с глубоким презрением к рядовым людям, которое было органи- ческим свойством коммунистической элиты со времен Ленина. Отсюда и первая причина того, почему новые люди во власти легко сотрудничали с бывшими советскими чиновниками всех рангов и КГБистами, преследовавшими диссидентов. Этим отличились среди других и М.Ходорковский, и особенно В. Гусинский, назначивший шефом своей службы безопасности генерала Ф. Бобкова, возглавлявшего в КГБ управление по борьбе с инакомыслием. В то же время необходимость изменения экономики была близка и новой, и советской элите. Ведь все советские лидеры, начиная с Ленина, проявляли полную удовлетворенность своей политической системой, но всегда были недовольны экономической.
Вторым фактором, который сблизил всех членов новой элиты — как бывших у власти ранее и впервые оказавшихся в ней — была приватизация, открывшая им возможность стать богатыми и нанесшая смертельный удар перспективам демократии в стране. Приватизация была у истоков возникновения новой экономической элиты России, которая сформировалась как из числа бывших аппаратчиков и "красных директоров", их родственников и друзей, так и из числа научных работников и подпольных бизнесменов. Почти все они, как только обрели богатство, за редким исключением (как К. Боровой) были врагами тоталитарного государства, но и одновременно противниками настоящей демократии. Почти все они исповедовали олигархическую (или феодальную) идеологию, которая обеспечила им взаимопонимание с политической элитой, также отвергавшей демократические идеалы18.
Собственность и новая российская элита
Дело в том, что новая элита, которая пришла к власти в 1991-ом году, попала в западню, которую почти никто не смог избежать, особенно потому, что ее жертвой оказался и сам Ельцин, новый руководитель страны, и его ближайшее окружение, и, прежде всего, его "семья". Большевистская элита не имела такого соблазна, ибо национализация собственности делала невозможным для нее ухватить имущество старого класса. Она могла рассчитывать только на определенные привилегии, которые кончались с уходом с должности и не передавались потомству. Некоторое оживление собственнических настроений у аппаратчиков низшего уровня во время НЭПа (бесконечно слабое по сравнению с 1990-ми годами), было подавлено Кремлем самым беспощадным образом. Иначе развивались события в 1990-ые годы.
Если бы в новой элите руководящая роль принадлежала лицам с демократической и аскетической ориентацией, то искус собственности был бы, вероятно, преодолен, как это произошло в Восточной Европе, хотя и там было не все гладко на этот счет. Другой ход событий имел бы место, если бы СМИ обладали свободой и с самого начала стояли на страже закона и обличали бывшую номенклатуру и "новых русских" в незаконном захвате собственности, как это было в Восточной Европе19. Однако и этого не произошло, и новые элиты — политическая, экономическая и даже культурная — почти единодушно включились в процесс обогащения, который почти всегда носил более или менее криминальный характер.
Приватизация привела к мощному слиянию власти и больших денег, и коррупция стала нормальным явлением общества. В результате этого процесса, абсолютное большинство должностных лиц (от главы муниципалитета в небольшой деревне до губернаторов и министров, от скромного милиционера или сотрудника ФСБ до генералов в армии и ФСБ, а также значительное количество представителей крупного бизнеса) были превращены в людей, которые совершили уголовные преступления и незаконно владеют частной собственностью. Не только аппаратчики, но и их дети, и родственники стали заложниками режима Путина. Правящий класс Путина не менее боится демократии, чем сам Путин, и по этой причине они поддерживают все его меры по искоренению остатков реальной оппозиции в стране. Аппаратчики всех уровней и правящая партия "Единая Россия" с большим удовольствием участвуют во всех посмешищах на демократические ценности и западную политическую модель.
Заключение
Главная причина нынешних проблем России и слабые перспективы для модернизации общества лежат в характере политической элиты страны. Глубока ошибка тех, кто объясняет нынешнее положение страны, главным образом ментальностью россиян и русскими традициями. Стечение разных обстоятельств (включая и некоторые традиции) привело к тому, что во главе страны оказалась люди, глубоко враждебные всяким серьезным изменениям в стране, так как они несут прямую угрозу их власти и собственности. Только если России удастся сформировать новую демократическую правящую элиту, она может вернуться на стезю прогресса.