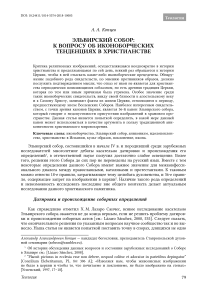Эльвирский собор: к вопросу об иконоборческих тенденциях в христианстве
Автор: Копцев Александр Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Критика религиозных изображений, осуществлявшаяся неоднократно в истории христианства и продолжающаяся по сей день, всякий раз обращается к истории Церкви, чтобы в ней отыскать какие-либо иконоборческие прецеденты. Обнаружение подобного рода свидетельств, по мнению противников образов, должно послужить подтверждением мысли, что отказ от икон не является для христианства периодически появляющимся соблазном, но есть древняя традиция Церкви, которая по тем или иным причинам была утрачена. Особое значение среди таких иконоборческих свидетельств, ввиду своей близости к апостольскому веку и к Самому Христу, занимают факты из жизни Церкви, относящиеся к периоду, предшествующему эпохе Вселенских Соборов. Наиболее интересным свидетельством, с точки зрения канонов Церкви, является 36-й канон Эльвирского собора, который говорит о недопустимости присутствия изображений в храмовом пространстве. Данная статья является попыткой определить, в какой мере данный канон может использоваться в качестве аргумента в пользу традиционной аниконичности христианского мировоззрения
Иконоборчество, эльвирский собор, аниконизм, идолопоклонство, христианство в испании, культ образов, поклонение, икона
Короткий адрес: https://sciup.org/140246615
IDR: 140246615 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10085
Текст научной статьи Эльвирский собор: к вопросу об иконоборческих тенденциях в христианстве
Эльвирский собор, состоявшийся в начале IV в. и породивший среди зарубежных исследователей многолетние дебаты касательно датировки и происхождения его определений1, в отечественной науке получил достаточно слабое освещение. Более того, решения этого Собора до сих пор не переведены на русский язык. Вместе с тем некоторые определения данного Собора имеют важное значение для межконфессионального диалога между православными, католиками и протестантами. К таковым можно отнести 18-е правило, затрагивающее тему целибата духовенства, и 36-е правило, содержащее запрет на изображения в церкви2. Наличие такого рода определений и невозможность исследовать последние вне общего контекста делает актуальным исследования данного христианского памятника.
Датировка и происхождение соборных определений
Как справедливо отметил Х. М. Лазаро Санчес, всякое исследование касательно Эльвирского собора окажется не до конца верным, если не решить проблему датировки и происхождения соборных актов [см.: Lázaro Sánchez, 2008, 535]. Следует сказать, что окончательного решения по указанным вопросам научное сообщество так и не вынесло. Наша статья не является попыткой поставить точку в спорах, длящихся не одно
десятилетие. Мы ограничимся лишь тем, что рассмотрим, как влияет та или иная датировка на смысл и значение 36-го канона.
Вопрос о датировке Собора является немаловажным для нашего исследования ввиду того, что от этого зависит, понимать ли это определение как предостережение от надругательства со стороны язычников, или искать иные причины появления этого канона. В некоторых копиях в качестве даты Эльвирского собора указывается 324 г. [см.: Dale, 1882, 13]. Однако наиболее вероятной датой, указываемой большим количеством исследователей [Čairović, 2017, 99; Hefele, 1872, 137; Conrad, 2004, 1; Шафф, 2010, 131], является 305–306 гг. Данная датировка строится на нескольких основаниях. Возможность собрать такой крупный собор во время гонения, которое в науке получило наименование «великое», нам кажется весьма маловероятным. Ослабление этих гонений, как справедливо указал К. Гефеле, произошло после мая 305 г., когда Констанций (более благосклонно относившийся к христианам) стал верховным правителем Испании [Hefele, 1872, 137; Dale, 1882, 33–34]. Другим фактом, определяющим верхнюю границу датировки, является присутствие епископа Сарагосского Валерия без диакона. Указанный епископ со своим диаконом в 304 г. был подвергнут преследованиям, в результате которых последний был казнен. Если бы диакон был жив на момент Собора, то непременно бы сопровождал своего епископа [Dale, 1882, 33–34]3. Нижняя же граница определяется тем, что в 316 г. умер епископ Валерий, один из участников Собора [Synod of Elvira, 1909, 116]4, т. е. Собор состоялся не позднее этого года. Вместе с тем другой участник, свт. Осия Кордубский, не мог присутствовать на Соборе позднее 306 г., так как в 307 г. он был призван в качестве советника императором св. Константином и находился с ним на Востоке [Шафф, 2010, 131, сн. 288]5. В результате мы можем заключить, что определения Эльвирского собора (в том числе и 36-й канон) являются, с одной стороны, реакцией на прошедшие гонения, а с другой — мерами по устройству церковной жизни после гонений.
Касательно природы происхождения канонов Собора существует два противоположных мнения среди исследователей. Одна часть полагает, что все из 81 канона были в действительности приняты отцами в Эльвире6. Другая же группа исследователей придерживается мысли, что лишь часть этих определений принадлежит Собору, остальные же либо были заимствованы из других Соборов, либо были присоединены позднее при составлении канонических сборников на Западе7. Как бы то ни было, лишь в последнем случае мы можем предполагать, что 36-е правило является позднейшей интерполяцией, и, следовательно, его содержание не может быть объяснено заботой Церкви о защите религиозного искусства от надругательства со стороны язычников. Тем не менее, во всех трех случаях мы имеем дело с решением поместного Собора, которое, судя по всему, не только не было воспринято и утверждено всей полнотой Церкви, но не получило и практической реализации в самой Испании.
Существующие интерпретации 36-го канона
Главный вопрос, который встает перед любым исследователем 36-го канона, — это вопрос «ширины» запрета, т. е. распространяется ли данный запрет на все религиозные изображения в целом, или направлен лишь на упразднение отдельных образов? Первого подхода, как правило, придерживаются протестантские исследователи, которые видят в данном запрете одно из свидетельств против иконопочитания. В качестве причины такого радикального запрета Дж. Карпентер указывает заботу Церкви о том, чтобы изображения в храмах не превратились в иконы [Carpenter, 2013, 115]8. Подобную аргументацию можно встретить у П. И. Рогозина [Рогозин] и В. И. Петренко [Петренко, 2000, 35]. Последний видит в запрете борьбу против проникающего в христианство язычества. Г. Леклерк и А. Гарнак же указывают, что этот канон отражает опасение Церкви о том, что введение образов в храмы соблазняет христиан служить изображениям так же, как служат им язычники [Grigg, 1976, 429].
Однако в настоящее время все большее число ученых склоняется к мысли о том, что исследуемый канон не является всеобъемлющим запретом церковных изображений. Исследователи данного направления, опираясь на текст канона, как правило, указывают два типа изображений, на которые распространяется действие 36-го канона. Первый тип — это монументальная живопись. Основанием для выделения этого типа образов служат слова канона «parietibus»9. Так Э. Биван [Bevan, 1940, 115–116] и Л. А. Успенский [Успенский, 1997, 18] указывают, что данный запрет распространяется только на настенную роспись. Касательно причин, побудивших отцов Эльвир-ского собора исключить изображения на церковных стенах, среди исследователей имеется разногласие. Р. Беллармин (Bellarmin) в качестве причины указывает сырость стен [см.: Gams, 1864, 95]. А. Бинтерим (Binterim) же объясняет запрет защитой Церкви от беспорядочного и безыскусного заполнения храмового пространства изображениями плохого качества [см.: Hefele, 1872, 151]. Ряд исследователей, утверждая ограниченность запрета, в качестве причины указывают опасность надругательства со стороны язычников [Помазанский, 2005, 386–387; Martini]. Однако А. Дэйл критикует данный подход, указывая, что ряд канонов Эльвиры свидетельствуют о том, что христианам не запрещено иметь собственные здания и в целом их жизнь не предполагает никакой угрозы [Dale, 1882, 27]. Вместе с тем сам он в качестве верной причины указывает опасность впадения в идолопоклонство [Dale, 1882, 29]. Наличие такого мнения отмечают в своих работах П. Б. Гамс и А. Стрежова [Gams, 1864, 95; Strezova, 2013, 323]. Однако если мнение, указываемое последними исследователями, предполагает защиту от языческих культов, то А. Дэйл видит в 36-м каноне меры по защите церковной жизни от суеверий, возникающих в самой христианской среде. Кроме того, против указанной причины происхождения эльвирского запрета свидетельствует и отсутствие в самом тексте канона осуждения идолопоклонства. В то время как большинство канонов тесно сопряжены с этой темой10, рассматриваемый запрет не указывает идолопоклонство в качестве причины.
Второй тип изображений, против которого может быть направлен 36-й канон, — это изображения Бога. К такому мнению пришел Г. Аубеспин (Aubespine) на основании того, что текст указанного канона содержит слово «adoratur». Поскольку данным словом на Западе традиционно обозначается поклонение, которое следует оказывать Богу, данный исследователь приходит к выводу, что запрет канона не относится к изображениям святых. Данное мнение было подвергнуто критике со стороны К. Гефеле и А. Дейла. Первый из них обратил внимание на то, что вместе со словом «adoratur» в тексте канона используется и «colitur», что не позволяет трактовать рассматриваемый канон в ключе, указанном Г. Аубеспином [Hefele, 1872, 151]. А. Дейл же критикует данный подход на основании того, что в IV веке на Западе слово «adoratur» еще не имело того понимания, каковое ему приписывает Г. Аубеспин11.
Помимо приведенных мнений встречается еще два объяснения 36-го канона. Ф. Мендоза связывает его принятие с наличием в ранней Церкви так называемого арканского учения [см.: Gams, 1864, 96]. Исходя из этого факта он делает вывод, что члены Эльвирского собора, руководствуясь нежеланием открывать более глубокие истины новоначальным, решили санкционировать упразднение образов. Р. Григг же полагает, что авторы 36-го канона были вдохновлены апологетической традицией, которая понимала вторую заповедь декалога как средство предотвращения нечестивых попыток изобразить Божество. Отталкиваясь от этой традиции, епископы в Эльвире боялись самого акта изображения предметов поклонения на стенах [Grigg, 1976, 429].
Наиболее трезвой оценкой эльвирского запрета на образы нам представляется мнение С. Бигама [Bigham, 1992, 106–109]. Данный исследователь отметил несколько важных моментов. Во-первых, канон показывает, что наличие религиозных образов в IV в. не было чем-то новым для Церкви. Более того, в это время в христианской среде существовало четкое различение идолов и изображений. Во-вторых, имеющиеся на данный момент источники не позволяют нам четко ответить на вопрос, против каких именно образов был направлен запрет и что стало причиной его включения в определения Эльвиры. В-третьих, 36-й канон не получил одобрения со стороны Церкви. Этому определению не подчинялись ни Испанская Церковь, ни другие поместные Церкви. Не воспроизводится это решение и среди определений других Соборов, в то время как другие решения Эльвирского собора имеют параллели с постановлениями иных Соборов. В-четвертых, все решения этого испанского Собора по своему характеру являются дисциплинарными и не содержат указания на богословские причины запрета. А это, в свою очередь, может означать, что его принятие могло быть обусловлено конкретными историческими, культурными и прочими обстоятельствами жизни испанской христианской общины.
Выводы
Рассмотрев существующие мнения исследователей касательно происхождения и понимания 36-го канона Эльвирского собора, мы можем отметить два важных момента. Во-первых, указание на стены и употребление в тексте канона слов «adoratur» и «colitur», а также дисциплинарный характер определений Собора подталкивают нас к мысли о том, что его нельзя интерпретировать буквально (как абсолютный запрет).
Однако даже если все-таки запрет распространялся на все виды образов, то неоспоримым остается второе обстоятельство. Эльвирский запрет на образы не отражает общехристианского отношения к изображениям в IV в. и в последующий период. Оно скорее является исключением на фоне всей жизни Церкви. Как и феномен Эльвирского собора в целом, указанный канон с трудом вписывается в общеисторическую ситуацию, что порождает огромное количество споров касательно не только датировки Собора, но и содержания его определений. Вопреки мнению В. И. Петренко мы должны указать, что данный Собор ни в какой мере не может быть назван «экуменическим»12. Он не был признан членами ни одной из поместных Церквей. После принятия этого решения изображения по-прежнему присутствовали и присутствуют в храмах.
Еще одним ярким показателем того, что 36-й канон является неким исключительным феноменом в жизни Церкви, служит тот факт, что и со стороны противников образов не обнаруживается ссылок на него. Этот запрет мы не встречаем ни у византийских иконоборцев, ни в трудах Клавдия Туринского, ни в каролингском богословии, ни во время Реформации в XVI в.13 Два приведенных выше обстоятельства свидетельствуют о том, что 36-й канон Эльвирского собора не может быть привлекаем в качестве свидетельства враждебности раннехристианской Церкви по отношению к религиозным изображениям.
Список литературы Эльвирский собор: к вопросу об иконоборческих тенденциях в христианстве
- Петренко В. И. Богословие икон. Протестантская точка зрения.СПб., 2000. 192 с.
- Помазанский М., протопресв. Православное догматическое богословие. М.: Дар, 2005. 464 с.
- Рогозин П. И. Откуда все это появилось. URL: htp://www.rusbaptist.stunda. org/rogoz-2.html / (дата обращения: 11.10.2017).
- Успенский Л. А. Богословие иконы православной Церкви. Переславль: Изд. братства во имя св. кн. Александра Невского, 1997. 656 с.
- Чаировић И. ђакон. Богословско-историјске импликације сабора у Елвири(306) // Ниши Византија. XI. Niš, 2011. С. 69-78.
- Шафф Ф. История христианской Церкви: в 8 т. Т. 2: Доникейское христианство 100-325 г. / пер. О. А. Рыбакова. СПб.: Библия для всех, 2010. 589 с.
- Arakaki R. A Response to John B. Carpenter's "Icons and the Eastern Orthodox Claim to Continuity with the Early Church". URL: htps://blogs.ancientfaith.com/orthodoxbridge/a-response-to-john-b-carpenters-icons-and-the-eastern-orthodox-claim-to-continuity-with-the-early-church/ (дата обращения: 11.10.2017).
- Bevan E. Holy Images: An Inquiry into Idolatry and Image-Worshipin Ancient Paganism and in Christianity. London: G. Allen & Unwin, 1940. 184 p.
- Bigham S. Les chrétiens et les images: les atitudes envers l'art dans l'Égliseancienne. Montréal: Éditions Paulines & Médiaspaul, 1992. P. 106-109.
- Čairović I. Possible Influence of Hosius of Cordoba on Decisions Madeat the First Ecumenical Council (325): Analogy of Canons from the Councils of Elvira, Arlesand Nicaea // Bogoslovni vestnik. 77. Št. 1. Ljubljana: Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2017.P. 97-108.
- Carpenter J. B. Icons and the Eastern Orthodox Claim to Continuitywith the Early Church // Journal of the International Society of Christian Apologetics. Mathews,2013. Vol. 6. № 1 (April). P. 107-122.
- Concilium Eleberitanum // PL. 84: 301B-310D.
- Conrad R. Communal Identity and the Earliest Christian Legislation onArt: Canon 36 of the Synod of Elvira // Perspectives for an architecture of solitude. Turnhout,2004. P. 1-7.
- Dale A. W. The Synod of Elvira and Christian Life in the Fourth Century.London: Macmillan and Co, 1882. 354 p.
- Gams P. B. Die Kirchengeschichte von Spanien, Bd. 2, 1: Vom: Jahr 305 bis588. Regensburg: Verlag von Georg Joseph Manz, 1864. 492 s.
- Grigg R. Aniconic Worship and the Apologetic Tradition: А Note onCanon 36 of the Council of Elvira // Church History. Vol. 45. № 4 (Dec). Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 428-433.
- Hefele K. J. A History of the Councils of the Church: To the Close of the Council of Nicaea, A. D. 325. Edinburgh: T. & T. CLABK, 1872. 502 p.
- Laeuchli S. Power and Sexuality. The Emergence of Canon Law at the Synod of Elvira. Philadelphia: Temple University Press, 1972. 144 p.
- Lázaro Sánchez M. J. L'état actual de la Recherche sur le conciled'Elvire // RSR. 2008. Vol. 82. № 4. P. 517-546.
- Martini G. V. Is Tere Really a Patristic Critique of Icons? URL: htps://blogs.ancientfaith.com/orthodoxyandheterodoxy/2013/05/20/is-there-really-a-patristic-critique-of-icons-part-3-of-5/ (дата обращения: 11.10.2017).
- Meigne M. Concile ou collection d'Elvire? // Revue d'Histoire Ecclesiastique,70. Louvain, 1975. P. 361-387.
- Strezova A. Overview on Iconophile and Iconoclastic Attitudes towards images in Early Christianity and Late Antiquity // Journal for the Study of Religions and Ideologies.12 (36). Cluj Napoca: SACRI, 2013. P. 228-258.
- Synod of Elvira // The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge ed. by S. M. Jackson in XIII vol. Vol. IV: Draeseke - Goa. New York;London: Funk and Wagnalls Company, 1909. P. 116.