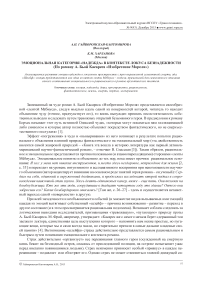Эмоциональная категория «надежда» в контексте локуса безнадежности (по роману А. Бьой Касареса «Изобретение Мореля»)
Автор: Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна, Харланова Ксения Михайловна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируется развития эмоции надежды в локальном пространстве с ярко выраженной семантикой смерти, ада. «Шлейф» эмоции представляется как один из витков ленты Мёбиуса - модели, применимой для символичного описания самого соотношения эмоционального и рационального в романе аргентинского писателя.
Эмоция, надежда, душа, пространство, рациональное, фантастическое, жизнь, смерть, портал, эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/14822431
IDR: 14822431
Текст научной статьи Эмоциональная категория «надежда» в контексте локуса безнадежности (по роману А. Бьой Касареса «Изобретение Мореля»)
Замешанный на чуде роман А. Бьой Касареса «Изобретение Мореля» представляется своеобразной «лентой Мёбиуса», следуя мыслью вдоль одной из поверхностей которой, читатель то находит объяснение чуду (точнее, предчувствует его), то вновь вынужден признать несостоятельность собственных выводов и следовать путем тревожных открытий безымянного героя. В предисловии к роману Борхес называет этот путь истинной Одиссеей чудес, «которые могут показаться нам галлюцинацией либо символом и которые автор полностью объясняет посредством фантастического, но не сверхъестественного постулата» [1].
Эффект «погружения» в чудо и «выныривания» из него возникает в результате попыток рационального объяснения влияний природы фантастического на эмоциональный мир (эта двойственность вносится самой жанровой природой – «Книга эта вошла в историю литературы как первый латиноамериканский научно-фантастический роман», – отмечает В. Спасская [3]). Таким образом, рациональное и эмоциональное представляются противоположными (и взаимопереходящими) сторонами «ленты Мёбиуса». Эмоциональное понятно и объяснимо до тех пор, пока имеет прочное рациональное основание: Я зол: у меня нет никаких инструментов, и место здесь нездоровое, непригодное для жилья [2, с. 33] и переходит на уровень интуитивного и ассоциативного восприятия при невозможности научного объяснения (автор акцентирует внимание на основном роде занятий героя романа – он ученый): Сердясь на себя, одинокий и окруженный двойниками, я продолжал исследовать второй подвал в сопровождении навязчивой стаи звуков. Здесь девять одинаковых камер, ниже – еще пять. Они похожи на бомбоубежища. Кто же эти люди, соорудившие в двадцать четвертом году это здание? Отчего они забросили его? Каких бомбардировок опасались? [Там же, с. 26–27] – здесь и осуществляется незаметный переход одной «поверхности» в другую.
При всей загадочности и необъяснимости событий (и множестве видов вызываемых ими эмоций) каждая из эмоций вытягивает собственный «шлейф» – причина возникновения – развитие – переход в другое состояние (и в этом просматривается рациональная подоплека). Возникает соблазн следовать за логическими выводами исследователей, признающими «тревожащую», «пугающую» природу прозы А. Бьой Касареса. М. Фрай, например, утверждает: «Касарес же с самого начала берет сдержанный тон заезжего лектора, единственная цель выступления которого – напомнить нам некие простые, но пугающие вещи, которые мы и сами всегда знали, но старательно прятали в самые дальние кладовые своей памяти» [4]. Вытягивание «шлейфа» страха действительно представляется самым рациональным и быстрым путем понимания эмоционального контекста романа.
Страх действительно «организует» все переживания главного героя (осужденный на смертную казнь бежит на безлюдный остров, спасаясь от преследований полиции, на острове испытывает ужас перед внезапно появившимися людьми). Страх неизменно привносит особый «привкус» в каждое переживание – подавляет или обостряет его. Однако страх не может становиться главной движущей си- лой – это сдерживающий фактор, он заставляет возвращаться (так и происходит: в ходе повествования герой снова и снова обращается к прошлому, побудившему его к бегству на этот остров – в этом смысле весь роман – торжество рефлексии). Страх не приближает к разгадке таинственного. Следовательно, не является и внутренним двигателем развития сюжета. Гораздо более убедительно на эту роль может претендовать другая эмоция – надежда.
Надежда изначально парадоксальна в локусе безнадежности: герой спасается бегством на острове, зараженном страшной болезнью, которая начинается снаружи и убивает, проникая внутрь. У человека выпадают ногти и волосы, отмирает кожа и роговица глаз, больной живет неделю-другую. <…> Однако моя жизнь была столь ужасна, что я решился… [2, с. 9–10]. Обосновавшись в музее, герой интуитивно чувствует, что попал в пространство чужих надежд: кто-то выстроил этот музей, по размерам вполне подходящий, чтобы быть санаторием или роскошной гостиницей – человек на пятьдесят, часовню и бассейн. Осматривая помещения, ученый поражается их геометрически правильным формам, господству симметрии, отсутствию всяческих украшений. Характерно, что любой объект «взвешивается», измеряется на глаз – за чувством удивления следует рациональная оценка (для чего?): Окна с голубыми стеклами достигли бы второго этажа в моем родном доме. Четыре алебастровых светильника – в чаше каждого из них могло бы поместиться по шесть человек – льют ровный электрический свет [Там же, с. 19]; площадки, нечто вроде лож, и в каждой красуется статуя сидящего божества <…> статуи втрое больше человеческого роста [Там же, с. 20]. Многоугольная зеркальная камера в подвале напоминает герою бомбоубежище. Вслед за мыслью о предназначенности таких построек на необитаемом острове возникает мысль о самих создателях, которые начертили проект дома, отравленного эхом, но зато надежно защищающего от бомб [Там же, с. 28] – что двигало ими? Чего они боялись и на что надеялись?
Отшельник не утешает себя надеждами (и даже боится их) на волю провидения, которое вдруг дарует ему все необходимые для выживания условия. Возможность спасения воспринимает как результат собственных усилий: Сколько дел у человека на пустынном острове! Как мучительно тверда древесина! Как необъятно пространство и как мала юркая птица! [Там же, с. 8–9]. Перед читателем предстает вовсе не мечтатель, а труженик, мыслящий сообразно суровой действительности, освобожденный от каких бы то ни было надежд. Более того, в сознании героя ощущение недоверия надежде приобретает очертания психологической мантры: Я ничего не жду. Но мне не страшно. Утвердившись в этом, я успокоился [Там же, с. 29]. Отсутствие надежды (отличающее его от классических робинзонов) тождественно спокойствию, это одно из необходимых условий выживания. Актуализируется богатый культурологический подтекст (возникает ассоциация с заключительной фразой над вратами ада в «Божественной комедии» Данте). Островное пространство действительно приобретает приметы локуса с негативной, адской семантикой ( Я знаю: лодка – это ад. <…> У меня не было ни пресной воды, ни шляпы. Когда сидишь на веслах, море бесконечно. Раскаленное солнце, усталость – все это было сильнее меня [Там же, с. 34–35]; Новые привидения (порождения моего мозга, измученного лишениями, ядами и жарой, или этого адского острова) были иберийцами»; «Это ад. Сияние двух солнц нестерпимо [Там же, с. 76; 27]).
Развитие эмоции стимулируется неожиданным появлением на острове группы людей: беглец боится, что его заметят: как любое культурное общество, они непременно владеют хитрыми современными способами опознания личности и, обнаружив меня, <…> не замедлят отправить в тюрьму [Там же, с. 12] и в то же время невольно наслаждается их присутствием после долгого отшельничества. Наблюдая за людьми, в особенности за Фаустиной, женщиной, похожей на цыганку, герой незаметно для себя обретает надежду (женщина дала мне какую-то надежду. Надо опасаться надежд [2, с. 29]). Далее читателю предоставляется возможность стать свидетелем динамичной борьбы страха и надежды, и в каждом кульминационном эпизоде этой борьбы надежда оказывается сильнее: Сейчас, грязный, обросший, изрядно постаревший, я питаю надежду на благотворное общество этой несомненно прекрасной женщины [Там же, с. 31]. В целом ряде картин, содержащих описание душевных волнений и признаний героя, неизменно присутствует надежда: Сеньорита, вы должны выслушать меня, – сказал я в надежде, что она не снизойдет к моей просьбе, от волнения я забыл приготовленные фразы; Все потеряно: надежда на жизнь с женщиной [2, с. 43; 57].
Надежда ведет его к разгадке необъяснимого прежде присутствия на острове людей: незаметно приближаясь к постройкам, к друзьям Фаустины, ученый слышит их диалоги и понимает, что мир этих людей существует в параллельном измерении и не соприкасается с его.
Следуя рациональной логике, герой разрабатывает версии, объясняющие его странное сосуществование с прибывшими на остров. А. Бьой Касарес упоминает призраков, пришельцев, характеризуя персонажей параллельных миров: страшно, что Фаустина, такая близкая, живет на другой планете <…>; но скорее всего <…> я мертв, я пребываю в ином измерении ; На этом острове могла произойти катастрофа, которую не успели заметить здешние мертвецы (я и населявшие его животные), затем появились пришельцы [Там же, с. 94–95]. И только при максимальном приближении (обусловленном обострившимся желанием понять мир этих людей, надеждой соединиться с Фаустиной) разгадка открывается в своем фантастическом великолепии – отшельник раскрывает тайну голографического мира, порожденного чужими надеждами.
Парадоксально, что создатель этого мира – изобретатель Морель, как и беглец-ученый, связывал с островом свою надежду на спасение, и в контексте его устремлений это небольшое, закрытое рифами островное пространство было не адом, а раем: Пришло время объявить вам: этот остров, с его постройками, – наш маленький рай [Там же, с. 139]. Сообразно распространенному представлению о рае (в котором обитают души) он реализует гениальную, но чудовищную по своему замыслу идею – создает голографическое кино, изображающее неделю беззаботной жизни его друзей на острове. Приливы приводят в действие механизм воспроизведения, и кино повторяется вечно (так воплощается мечта Мореля о бессмертии). Морель скрыл от друзей и свой план (потому «игра» их так естественна), и возможные последствия съемки (хотя прекрасно знал о губительном воздействии радиации на движущиеся «станции»). Делая их участниками своего эксперимента, изобретатель получает только их души (ту субстанцию, которую он представлял себе так: Когда все чувства собраны воедино, возникает душа [Там же, с. 129]). Под всеми чувствами он подразумевает ощущения, вызываемые изображением – оптические, акустические, осязательные и т.д. О том, что изображения почти совершенны, свидетельствует возникновение настоящего чувства беглеца-ученого к Фаустине (ради возможности быть с которой – хотя бы в кинопроекции – и трудился Морель: мне захотелось <…> навечно воплотить в жизнь свою сентиментальную мечту [Там же, с. 121]).
Сталкивая два мира, А. Бьой Касарес создает эффект двойничества – герои-ученые (Морель и беглец) оказываются на острове, движимые надеждами, имеющими одну и ту же основу – жажду бессмертия. В речи Мореля эта тема звучит как основная (В фотографии мы будем жить вечно; Я мог бы сказать вам по приезде: мы будем жить для вечности [Там же, с. 118]). Морель выводит присутствие в каждом жажды бессмертия как закон, не знающий исключений. Так, размышляя о друзьях, которые отказались приехать, он озвучивает предположения об альтернативном поиске и ими того же пути: Клод прислал извинения: он работает над гипотезой в форме то ли романа, то ли теологического трактата о несогласии Бога и личности; гипотеза эта, как он считает, принесет ему бессмертие, и он не хочет прерываться. Мадлен уже два года никуда не выезжает, боясь за свое здоровье [Там же, с. 119]. Безымянный скиталец-ученый также размышляет о бессмертии: Я прошел вдоль полок, подыскивая материал для неких исследований, которые оборвались с началом судебного процесса и которые я попытался продолжить на пустынном острове (я считаю, мы теряем бессмертие из-за того, что борьба со смертью не претерпела никакой эволюции, она направлена на первую, самую очевидную цель – поддерживать жизнь во всем организме. Следовало бы стремиться к сохранению лишь того, что важно для сознания) [Там же, с. 19]. Очевидно и отдаленное внешнее сходство, возникающее на конкретном этапе движения в вечность (о Мореле: Борода кажется приклеенной. Кожа женская, желтоватая, мраморная на висках. Глаза темные, зубы – отвратительные. Говорит он медленно, как-то по-де- тски разевая рот – маленький и круглый; видишь его красный язык, вечно прижатый к нижним зубам [2, с. 59) и о беглеце: Стоя у зеркальной ширмы, вижу, что я лыс, безбород, без ногтей, розоватого цвета [Там же, с. 188]). В отношении героев к Фаустине тоже наблюдается определенное сходство – надежды на счастье сменяются отчаянием, возникает стремление найти любой способ сближения с ней (У меня есть три возможности <…>. Овладеть ею силой, проникнуть на борт, дать ей уехать. <…> Неужели на всем острове нет места, где бы ее спрятать? [Там же, с. 99] (герой) – Поначалу я думал или убедить ее приехать сюда вдвоем <…> или попытаться похитить ее) [Там же, с. 121] (Морель).
Образ же Фаустины оказывается своеобразным порталом, соединяющим почти зеркальные миры. Понимая, что Фаустины больше нет в его мире, она существует только в виде изображения, герой максимально приближается к переходу в измерение, созданное гением Мореля, органично принимает его идеи, казавшиеся прежде пошлостью и преступлением: Он любил недосягаемую Фаустину. Поэтому он убил ее, убил себя вместе со всеми друзьями, поэтому изобрел бессмертие! Красота Фаустины стоит безумств, почестей, преступлений. <…> Теперь я смотрю на поступок Мореля, как и должно, – с восхищением [Там же, с. 184]. Место, представлявшееся ему прежде адом, обнаруживает теперь черты блаженной аркадии: Моя жизнь ничуть не ужасна. Оставив беспокойные надежды отправиться на поиски Фаустины, я привыкаю к блаженной участи созерцать ее постоянно. Вот моя судьба: жить, быть счастливейшим из смертных [Там же, с. 184–185].
Понимая, что надежда быть замеченным, любимым, счастливым не может сбыться в силу объективных причин, герой предпочитает полностью «слиться» со своим двойником – Морелем. В определенный момент и его устремления обращены к действию механизма как единственной возможности соединиться с любимой душой – есть еще слабая надежда, и ради нее я должен спуститься в подвалы музея и разглядеть машины [Там же, с. 143] – Я надеялся, что, увидев, как машины приходят в действие, я разберусь в них или по крайней мере соображу, в каком направлении надо думать. Эта надежда не сбылась [Там же, с. 159–160]. Наблюдая за тем, как герой пытается разобраться в принципе работы механизмов, можно констатировать противостояние двойников – один пытается получить единственный шанс бессмертия, другой – защитить свое изобретение, свое бессмертие. Только полное согласие, тождество надежд позволяет герою обрести счастье представляющейся ему вечности: он накладывает собственное изображение на уже существующее и готовится к смерти с ощущением почти сбывшихся надежд.
Обновленная пластинка запускается вновь и вновь. Бесконечность воспроизведения иллюстрирует обычную когерентность человеческих ожиданий и надежд (неслучайно у главного героя нет имени). Лента Мёбиуса повторяет витки, откровения и разочарования, обеспечивая вечную «правильность» законов человеческого существования ( Привыкнув видеть повторяющуюся жизнь, я нахожу свою безнадежно случайной [Там же, с. 156], – замечает герой). Однако наложение новых волн, обогащение новой информацией – результат работы человеческой души, в которой надежда побеждает страх.
Список литературы Эмоциональная категория «надежда» в контексте локуса безнадежности (по роману А. Бьой Касареса «Изобретение Мореля»)
- Борхес Хорхе Луис. Предисловие к роману А. Бьой Касареса «Изобретение Мореля» . URL: http://www.litmir.co/br/?b=129069.
- Бьой Касарес А. Изобретение Мореля: роман. М.: АСТ: Астрель, 2011.
- Спасская В. «Поистине мир неисчерпаем»//Бьой Касарес А. Теневая сторона: рассказы. М.: Известия, 1987 . URL: http://www.lib.ru/INPROZ/KASARES/kasares1_1.txt.
- Фрай М. Пять вечеров с Адольфо Бьой Касаресом: эссе . URL: http://fantlab.ru/article380.