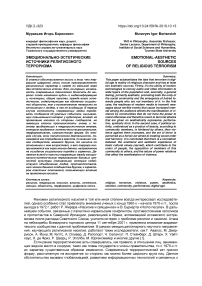Эмоционально-эстетические источники религиозного терроризма
Автор: Муравьев Игорь Борисович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 10, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается мысль о том, что терроризм цифровой эпохи носит преимущественно религиозный характер и имеет по меньшей мере два эстетических истока. Это, во-первых, возможность современных технологий доносить до широких слоев населения аудио- и видеоинформацию и, во-вторых, общее чувство, прежде всего эстетическое, содействующее как единению социальной общности, так и возникновению ненависти по отношению к людям, в нее не входящим. В первом случае готовность современных медиа передавать сообщения об ужасных событиях, вызывающих повышенный интерес у аудитории, влияет на проявление насилия со стороны сообществ, не имеющих власти противостоять иному и поэтому прибегающих к террористическим атакам, которым придается эстетически-выразительная, перформативная, символическая форма. Во втором случае, если политической деятельности, понимаемой как порождение в красоте, по мнению членов сообщества, мешают другие, то насилие по отношению к ним возрастает, а акт террора воспринимается как героическое деяние, направленное на созидание социального порядка и гармонии. Делается вывод о наличии корреляции между эмоционально-эстетическим переживанием базовых ценностей культуры (священным), которые содействуют объединению людей, противопоставлению членов данного сообщества другим, и характером властных отношений, оказывающих влияние на проявление насилия.
Религия, терроризм, насилие, власть, эстетика, эмоции, общность, перформанс, цифровая эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/149133856
IDR: 149133856 | УДК: 2+323 | DOI: 10.24158/fik.2019.10.13
Текст научной статьи Эмоционально-эстетические источники религиозного терроризма
Феномен религиозного насилия в той или иной степени всегда интересовал исследователей, однако особенно стал привлекать внимание ученых с конца 1960-х – начала 1970-х гг., после выхода в 1972 г. работ Р. Жирара «Насилие и священное» и В. Буркерта «Ноmо necans». В дальнейшем события, связанные с палестино-израильским конфликтом, противостоянием католиков и протестантов в Северной Ирландии, революцией в Иране, активизацией исламского экстремизма после распада Советского Союза, усилили интерес к проблеме религии и насилия. Атака на небоскребы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 г. привлекла внимание академического сообщества к данной проблематике. В рамках междисциплинарного научного направления, изучающего религиозное насилие, работают такие исследователи, как Г. Авалос, М. Джер-рисон, А. Йона, М. Киттс, А. Оливер, Д. Рапопорт, Ч. Селенгут, П. Стейнберг, Д. Штерн, Х. Уайтхаус, Х. де Фриз, Р. Шварц, Р. Эпплби, М. Юргенсмейер и многие другие [1].
Если ранее террористические акты совершались, как правило, в отношении лиц, занимающих видное место в социуме, таких как главы государств и члены правительства, то с 1970-х гг. их характер существенным образом изменился. Современный террористический акт принял форму, рассчитанную на восприятие со стороны как можно более широкого круга лиц. Данное обстоятельство вызвано глобализацией, развитием информационных технологий и связанных с ними форм коммуникаций, позволяющих передавать сообщение огромному количеству людей. В симбиозе с медиа усматривают одно «из наиболее существенных условий функционирования современного терроризма» [2, с. 236]. Таким образом, развитие СМИ привело к тому, что способность оказывать сильное зрительное впечатление становится ведущим фактором, изменившим характер публичного насилия.
О родстве террора с изображением и его рождением из экрана писал в эссе «Зеркало терроризма» Ж. Бодрийяр. Согласно французскому философу, благодаря электронным медиа терроризм является особенно современной формой [3, с. 112]. Он тем сильнее способен повлиять на сознание тех, кому адресован, чем более зрелищным, драматичным, ужасным и символичным будет насилие. Ж. Бодрийяр указывает, что лица, которые совершают террор и которых показывают на экране, выполняют роль актеров, а само действие рассматривается нами, зрителями, как сценическая постановка [4].
Совершение террористического акта определяется не только его ужасной эстетикой, будоражащим воздействием на чувства людей – во многом террорист совершает злодеяние по причинам, укорененным в его эмоционально-эстетической и религиозной сфере. Причем религию здесь можно понимать не только в узком, но и в широком смысле этого слова, предложенном П. Тиллихом. Религия в качестве эмоционально-эстетического переживания священного присутствует в ментальности террориста, стремящегося навязать другим свою систему ценностей, являющихся для него предельными, безусловными, конечными, абсолютными. В этом смысле террористом, независимо от того, совершается злодеяние от имени Бога или во имя утверждения светских идеалов, движет его вера, или, как сказал бы П. Тиллих, религия или квазирелигия [5, с. 398–399].
В цифровую эпоху терроризм становится глобальным явлением как в аспекте выбора целей атак, так и по характеру экстремистских объединений, которые часто носят транснациональный характер. При этом наиболее устрашающие акты насилия совершают лица, которые идентифицируют себя с той или иной религией. Другой причиной, по которой религию и терроризм следует рассматривать вместе, является не только темный шлейф насилия, который мы видим в ее истории, но и то, что террористические акты имеют символическую сторону и в этом смысле имитируют религиозные обряды [6, р. XII]. В связи с этим ведущий специалист в области религиозного насилия М. Юргенсмейер пишет о религиозном терроризме как о перформансе насилия, которое имеет свой сценарий и послание, исполнителей и зрителей [7]. Он показывает, что одной из целей террористических актов в современную эпоху является желание преступников заставить других людей взглянуть на мир их глазами. Согласно М. Юргенсмейеру, основной сценарий, по которому совершается террористический акт, – это сценарий вселенской войны ( cosmic war ) добра со злом, порядка с хаосом, света с тьмой, смысла с бессмысленностью, веры с неверием, Бога с Сатаной и т. п. [8, р. 149]. Идея вселенской войны позволяет присваивать религиозный авторитет и получать моральную легитимацию на ниспровержение существующего государственного строя, обеспечивает космологию, историю и эсхатологию и предлагает бразды правления и политического контроля.
Образы вселенской войны присутствуют в самых разнообразных религиях. Наиболее известной является концепция джихада, которую исламские активисты используют для обоснования ответных мер на политическое и культурное влияние Запада [9, р. 242; 10, р. XVIII–XIX]. Идея борьбы добра со злом, принимающей космические масштабы, присутствует и в христианстве. Так, российские исследователи отмечают, что в наши дни официальная позиция Московской патриархии строится на идее глобального, цивилизационного противостояния национального православия внутреннему и внешнему секуляризму [11, с. 126].
Известный философ Х. Арендт стремилась доказать, что насилие не способно изменить историю, но его главная цель заключается в обнажении недовольства и привлечении к нему общественного внимания [12, с. 44]. Развивая ее мысль, М. Юргенсмейер подчеркивает, что терроризм следует понимать не как расчет или тактику, направленную на достижение непосредственных земных целей, но как «перформанс насилия» – перформанс «драматических событий», призванных поразить своей символической значимостью [13, р. 517]. Например, крушение башен-близнецов в Нью-Йорке позволило создать видимость непрочности, шаткости цивилизационных основ и государственной власти тех, против кого был направлен террористический акт. Представители ислама, даже не приемлющие терроризм, восприняли падение небоскребов, являющихся символами современного мира, как демонстрацию иллюзорности западных ценностей, во имя которых были воздвигнуты эти высотные здания; как крушение высокомерия и неуемных фантомных устремлений людей, противопоставивших себя Богу [14, с. 114].
Таким образом, в наши дни террористы совершают насилие, зная, что они тем более привлекут внимание публики и будут услышаны, чем театральнее и зрелищнее будет их злодеяние. Цифровые средства коммуникации обусловили придание современному терроризму эстетиче- ски-выразительной, перформативной, драматической, театральной формы. В силу символичности и театральности террористические акты исполняются как религиозные ритуалы, а религиозные ритуалы способствуют свершению наиболее символичного, зловещего насилия. Поэтому авторами и исполнителями наиболее устрашающих деяний являются лица, идентифицирующие себя с той или иной конфессией. Религиозный терроризм имеет свою сцену, исполнителей, аудиторию и сценарий; как правило, это вселенская война – концепция, согласно которой во всем мироздании идет борьба добра и зла, порядка и хаоса и т. п.
Почему терроризм цифровой эпохи имеет одной из своих причин общее чувство, прежде всего эстетическое? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть роль общего чувства в образовании социальной общности. Мыслители, прежде всего Платон и И. Кант, отмечали, что в формировании сообщества большое значение имеют чувственно-эмоциональная, эстетическая сфера, общее чувство, способность суждения. Основываясь на положениях Платона, американский философ А. Нехамас в своей книге «Только обещание счастья» указывает на взаимосвязь между дружбой, сообществом и красотой [15, р. 57, 82]. Как известно, у Платона Эрос – это стремление к вечному порождению в красоте ради бессмертия; порождению как телесному, так и духовному («Пир», 206а – 207a) [16, с. 116–117]. Стремление к красоте, видимому проявлению блага содействует единению людей и образованию сообщества. У Платона каждому из этапов трансформации субъектов в их восхождении к красоте соответствуют свои виды деятельности (рождения). Люди, объединенные общим стремлением к прекрасному, к благу, открывают и создают предельные ценности культуры (священное) и основывающиеся на этих ценностях нормы жизни (порождают прекрасные законы и поэмы, согласно Платону («Пир», 209а – 212а) [17, с. 119–122]), которые они часто считают наилучшими, но которые членами других сообществ могут восприниматься как чуждые и неестественные, инструментальные и насильственные.
Политическая деятельность, понимаемая как порождение в красоте, неизбежно встречает различного рода затруднения в своем стремлении к прекрасному, бытию, ресурсам и т. п. В случае наличия затруднений в реализации своего образа жизни (попытках достичь бытия, породить в красоте) индивиды следуют логике, описанной Р. Жираром: находят виновных и проявляют к ним насилие. Кроме того, как заметили К. Шмитт и Т. Адорно, общность чувств не только формирует сообщества, но и способствует нарастанию враждебности по отношению к тем, кто в данное сообщество не входит [18, с. 265, 277]. Диалектика «включения/исключения», основанная на идентификации, создает условия для негативного отношения к чужакам.
Важно отметить, что террорист уничтожает других не потому, что они угрожают ему, а потому, что он исключает их из числа людей, достойных существования [19, p. XII]. Религиозная идентичность, общность мыслей и чувств позволяют отождествить себя и свою референтную группу с благом, а других – со злом, заразой, разложением – всем тем, что необходимо подавить и уничтожить. В этом контексте сакральное насилие рассматривается в качестве вакцины против профанного, а объекты насилия – как необходимая жертва, как минимум, как средство, инструмент [20, p. 14], необходимый для достижения «праведной» цели, меньшего зла, позволяющий устранить зло большое [21].
Возможно, мы будем правы, если скажем, что от интенсивности эмоционально-эстетического переживания предельных ценностей культуры (священного), влияющих на формирование идентичности, зависят степень противопоставления одних людей другим и уровень проявления насилия к ним. Например, исследователь политического ислама А. Барзегар указывает, что именно эстетика, а не «идеология» наполняют повседневные обыденные практики политического ислама [22, p. 345]. Видимо, эмоциональность и экспрессивность переживания священного в исламе, его всеобъемлющий эстетизм являются одной из причин, обусловливающей совершение актов террора преимущественно лицами, идентифицирующими себя с этой религией.
Таким образом, одним из источников насилия является потребность в социальном действии, возникающем как результат связей и отношений между человеком и предметом его любви (священным), и невозможность ненасильственной реализации данного действия в социуме. В результате индивиды переносят, согласно диалектике «включения/исключения», на другого характеристики, позволяющие применять по отношению к нему насилие. Общность чувств – любовь и красота – позволяют одним людям идентифицировать себя как некое единство и противостоять тем, кто не входит в данную социальную общность. Таким образом, любовь (эрос, филиа) и красота как эмоционально-эстетические факторы не только содействуют объединению людей, но и могут быть источниками отрицательных, неприемлемых социальных феноменов, связанных с насилием.
Ссылки:
Список литературы Эмоционально-эстетические источники религиозного терроризма
- Зыгмонт А.И. Проблематика насилия в Русской православной церкви в постсоветский период // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 117-145
- Край К. Коммуникационный аспект терроризма - польский взгляд [Электронный ресурс] // Государственное управление: электронный вестник. 2016. № 57. С. 234-248. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2016/vipusk__57._avgust_2016_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/kraj.pdf (дата обращения: 07.05.2019)
- Бодрийяр Ж. Зеркало терроризма // Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла / пер. с фр. Л. Любарской и Е. Марковской. М., 2000. С. 111-120
- Бодрийяр Ж. Зеркало терроризма // Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла / пер. с фр. Л. Любарской и Е. Марковской. М., 2000. С. 111-120.
- Тиллих П. Избранное. Теология культуры: пер. с англ. М., 1995. 479 с
- The Morality of Terrorism: Religious and Secular Justifications / ed. by D.C. Rapoport, Yo. Alexander. N. Y., 1982. 400 p
- Juergensmeyer M. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. 3rd ed. Berkeley; Los Angeles; L., 2003. 319 p
- Juergensmeyer M. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. 3rd ed. Berkeley; Los Angeles; L., 2003. P. 149.
- Juergensmeyer M. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. 3rd ed. Berkeley; Los Angeles; L., 2003. P. 242.
- Stern J. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. N. Y., 2003. 400 p.
- Зыгмонт А.И. Проблематика насилия в Русской православной церкви в постсоветский период // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 126.
- Арендт Х. О насилии / пер. с англ. Г.М. Дашевского. М., 2014. 148 с
- Juergensmeyer M. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. 3rd ed. Berkeley; Los Angeles; L., 2003. 319 p.
- Шукуров Ш.М. Образ человека в искусстве ислама. 2-е изд. М., 2010. 160 с
- Nehamas A. Only a Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art. Princeton, NJ, 2007. 200 p
- Платон. Пир // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 81-134
- Платон. Пир // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 119-122.
- Вайбель П. Теории насилия: Беньямин, Фрейд, Шмитт, Деррида, Адорно // Логос. 2018. Т. 28, № 1. С. 261-279.
- DOI: 10.22394/0869-5377-2018-1-261-278
- Schmid A.P., Graaf J. de. Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media. L., 1982. 286 p
- Жирар Р. Насилие и священное / пер. с фр. Г.М. Дашевского. 2-е изд. М., 2010. 436 с
- Barzegar A. Charisma and Community in the Aesthetics of Political Islam // Soundings: An Interdisciplinary Journal. 2014. Vol. 97, no. 3. P. 340-348.
- DOI: 10.5325/soundings.97.3.0340