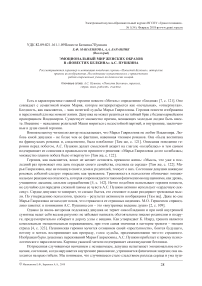Эмоциональный мир женских образов в "Повестях Белкина" А.С. Пушкина
Автор: Манаенкова Елена Федоровна, Баранник Анастасия Андреевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются характер и мотивация поведения героинь «Повестей Белкина», авторские приемы их изображения. Исследование осуществлялось с привлечением работ современных ученых по психологии эмоций.
А.с. пушкин, "повести белкина", тревога, страх, вина, радость, счастье
Короткий адрес: https://sciup.org/14822653
IDR: 14822653 | УДК: 82.09:821.161.1.09По6ести
Текст научной статьи Эмоциональный мир женских образов в "Повестях Белкина" А.С. Пушкина
Есть в характеристике главной героини повести «Метель» определение «бледная» [7, с. 121]. Оно совпадает с семантикой имени Мария, которое интерпретируется как «печальная», «отвергнутая». Бледность, как выясняется, – знак нелегкой судьбы Марьи Гавриловны. Героиня повести изображена в переломный для нее момент жизни. Девушка не может решиться на тайный брак с бедным армейским прапорщиком Владимиром. Существует множество причин, мешающих молодым людям быть вместе. Внешние – нежелание родителей Маши мириться с недостойной партией, и внутренние, заключенные в душе самой героини.
Внимательному читателю автор подсказывает, что Марья Гавриловна не любит Владимира. Любовь юной девушки – не более чем ее фантазия, навеянная чтением романов. Она «была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» [Там же, с. 121]. Описывая поведение героини перед побегом, А.С. Пушкин делает смысловой акцент на глаголе «колебалась» и тем самым подчеркивает ее сомнения в правильности принятого решения: «Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто» [Там же, с. 122].
Героиня, как выясняется, вовсе не желает оставлять прежнюю жизнь: «Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце» [Там же, с. 122]. Марья Гавриловна, еще не покинув своего дома и родителей, тоскует о них. Состояние девушки накануне роковых событий следует определить как тревожное. Тревожность в психологии обозначает эмоциональную реакцию на опасность, которая сопровождается такими физическими ощущениями, как дрожь, учащенное дыхание, сильное сердцебиение [5, с. 142]. Нечто подобное испытывает героиня повести, не случайно для передачи сложной гаммы ее чувств А.С. Пушкин активно использует «сердечную лексику». Сердце девушки то замирает, то сильно бьется, его стесняют и даже раздирают тревожные мысли. По утверждению психологов, тревога – результат активности воображения [Там же]. Даже во сне Марья Гавриловна не находит покоя, что отражено в ее страшных видениях. М.О. Гершензон справедливо заметил: в понимании А.С. Пушкина сон – это «внутреннее видение души» [2, с. 109].
Однако (и вновь авторская подсказка) девушка не теряет самообладания и при всей внутренней сумятице ведет себя весьма разумно: не забывает написать обстоятельное письмо родителям и подруге, предусмотрительно собирает в дорогу узлы с вещами. Как утверждает К. Изард, тревога является комплексным эмоциональным переживанием, при этом самая значимая в паттерне тревоги – эмоция страха [4, с. 323]. Пушкинская героиня мучится сознанием своей «преступности», боится будущего, потому и метель воспринимает как преграду, голос судьбы, предзнаменование чего-то страшного. Изображая бурю душевных переживаний Марьи Гавриловны, А.С. Пушкин прибегает к приему психологического параллелизма. Картина ужасной метели подчеркивает самоощущение беглянки.
Потрясенная случившимся венчанием с незнакомцем, девушка испытывает эмоциональное истощение, состояние, когда нарушается внутреннее равновесие, утрачивается физическая энергия; она находится на краю гибели. Мы понимаем, что случившееся стало следствием разлада сердца и ума пуш- кинской героини. Смущенный романтическими историями разум толкает ее на ложный путь. И только сердце пытается уберечь от страшной ошибки. Источником тревоги Марьи Гавриловны стали ее подлинные чувства, пришедшие в противоречие с выдуманной любовью.
Пережив, подобно Марье Гавриловне, сомнения, тревогу и страх, Дуня, героиня «Станционного смотрителя», вырывается из убогого круга жизни и становится «прекрасной барыней» [7, с. 148]. В начале повествования перед нами совсем юная дочь смотрителя, обладающая удивительной красотой, разумностью и практичностью. Ее решение уехать со стройным гусаром не столько любовное ослепление, сколько трезвый расчет выросшей без матери, рано повзрослевшей 14-летней девочки. Однако глубокая привязанность к отцу, страх перед будущим заставляют ее колебаться до последнего момента: «…во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» [Там же, с. 145]. И вновь мы наблюдаем борение «головного» и «сердечного» в душе пушкинской героини.
Ее судьба сложилась счастливо, но чувствовать себя счастливой Дуня не может. Помогает это понять переживаемое героиней чувство вины перед покинутым ею отцом. Стоило только Вырину напомнить о себе (сцена на Литейной), как красавица лишилась чувств. Переживание вины и способность к раскаянию психологи определяют понятием «совесть». Е.П. Ильин отметил, что З. Фрейд, который ввел в психологию понятие «тревога», рассматривал вину как нравственную разновидность тревоги, «тревогу совести» [5, с. 187]. Ощущение такой тревоги запускает особый механизм, когда человек пытается загладить ущерб, нанесенный его ошибочными действиями. Став матерью, героиня повести до конца осознает, какую боль испытал ее отец. Дуню автор изображает со стороны: о ней рассказывают повествователь, отец, ямщик, мальчик. Подобный прием помогает лишь догадываться о переживаниях героини. Вместе с тем покаянный плач Дуни на могиле смотрителя показывает: ничто не заглушит в ее душе чувства дочерней вины.
На наш взгляд, А.Г. Гукасова вплотную подошла к разгадке содержания «Барышни-крестьянки»: «Пафос повести – в особенностях характера … веселой, жизнерадостной Лизы Муромской, о которой Пушкин, в отличие от всех других персонажей, рассказывает без малейшего оттенка иронии и усмешки» [3, с. 197]. В героине автор прежде всего подчеркивает рано развитые чувства и страсти.
Лизу Муромскую отличает свежесть чувств и острота переживаний. Ее резвость и поминутные проказы – свидетельство открытой и жизнерадостной натуры. Надо отметить, что эмоция радости сопровождает Лизу на всем протяжении повести. Она радуется своим веселым выдумкам, хохочет от души над рассказом Берестова о барышне Муромской, постоянно будоражит окружающих неиссякаемым жизнелюбием. Чаще всего радость уподобляется некоей жидкости, заполняющей человека изнутри. Дворянскую дочь, Лизу Муромскую, счастье не просто заполняет, создается впечатление переполненности героини радостными ощущениями.
В. Квинн определяет радость как активную положительную эмоцию, выражающуюся в хорошем настроении и ощущении удовольствия [6]. Изард отмечает, что радость сопровождается переживанием удовлетворенности самим собой и окружающим миром. «Эмоция радости, – пишет он, – вступает во взаимодействие с другими эмоциями, с перцептивно-когнитивными процессами и поведением. Переживание радости может вызывать определенные действия, но оно также порождает открытость и ре-цептивность восприятия, пробуждает интуицию и творческие способности» [4, с. 188].
Радостное мироощущение пушкинской героини стимулирует ее деятельное, творческое отношение к жизни. Правила приличия не позволяют познакомиться с посторонним юношей; конфликт отцов исключает возможность «легальной» встречи – Лиза тут же придумывает ход (переодевание барышни в крестьянку). Изменившиеся обстоятельства (родители молодых людей внезапно примирились; старший Берестов с сыном являются в Прилучино с визитом; Алексей не должен узнать в Лизе Муромской Акулину) заставляют барышню разыгрывать роль в духе Людовика XIV.
Жизнерадостность героини – это и показатель ее ясного и сильного характера. Девушка во всех случаях достигает цели – встречается с Алексеем, остается не узнанной им в «иноземном» облике. И так всегда: она решительно и вместе с этим удивительно легко добивается своего.
Веселый нрав героини Пушкина словно программирует ее на счастье. Радость составляет эмоциональную основу счастья. Традиционно счастье определяется как чувственно-эмоциональная форма идеала, как понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое способствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни [8, с. 640]. Вообще понятие «счастье» является сложным, имеющим как когнитивный, так и эмоциональный компонент, а понимание счастья – сугубо индивидуально.
С.Г. Воркачев предпринял попытку типологизировать индивидуальные представления о счастье [1]. Среди прочих он выдвигает концепцию «простого человеческого счастья», заключающуюся в возможности и способности наслаждаться общедоступными «нормативными» благами: здоровьем, природой и т. д., и концепцию «неосознанности счастья», согласно которой, пока человек счастлив, он об этом не задумывается [Там же, с. 51–52]. Пушкинская героиня в силу своего характера, безусловно, счастлива, потому что ощущает полноту жизни, умеет ей безотчетно радоваться.
По А.С. Пушкину, основы нравственного идеала заложены в русском крестьянском мире. Сердце Лизы впитало в себя этот мир, ее слитность с духом русской деревни делает героиню такой цельной и обаятельной.
Итак, отмеченное нами соответствие описания внутреннего мира героинь «Повестей Белкина» теории дифференцированных эмоций подтверждает реалистичность пушкинских характеров во всей их сложности и противоречивости. Кроме знания женской психологии, автор демонстрирует разнообразные приемы ее изображения.
Список литературы Эмоциональный мир женских образов в "Повестях Белкина" А.С. Пушкина
- Воркачев С.Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты//Изв. РАН. Сер.: Лит. и яз. 2001. Т. 60. № 6. С. 47-58.
- Гершензон М. Статьи о Пушкине. М.: Academia, 1926.
- Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве А.С. Пушкина. М.: Просвещение, 1973.
- Изард К.Э. Психология эмоций/пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.
- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001.
- Квинн В.Н. Прикладная психология. СПб.: Питер, 2000.
- Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 5 т. СПб.: БИБЛИОПОЛИС, 1995. Т. 4.
- Философский энциклопедический словарь/редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989. 2-е изд.