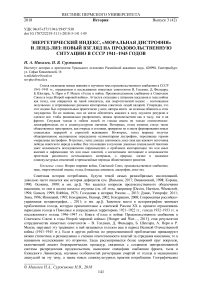Энергетический индекс, "моральная дистрофия" и ленд-лиз: новый взгляд на продовольственную ситуацию в СССР 1941-1945 годов
Автор: Михалев Н.А., Суржикова Н.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Европейских стран и регионов
Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена новым веяниям в изучении темы продовольственного снабжения в СССР 1941-1945 гг., отраженным в исследовании известных советологов В. Голдман, Д. Фильцера, Б. Шехтера, А. Пери и Р. Менли «Г олод и война: Продовольственное снабжение в Советском Союзе в годы Второй мировой войны». Аттестуя ситуацию с питанием населения в годы войны как голод, они опираются на такой показатель, как энергетический индекс - соотношение получаемых и затрачиваемых разными категориями советских людей калорий. Утверждая, что этот индекс был отрицательным практически у всех, авторы книги не склонны обвинять в этом государство. По их мнению, оно не могло обеспечить каждого в силу скудости ресурсов и сделало все, чтобы рационально распределить запасы продовольствия как в тылу, так и на фронте. Ситуация голода и гибели людей от голода имела не только статистическо-демографическое, но и социокультурное значение. Во-первых, голод изменил статус таких общественных пространств, как очередь и столовая, превратив их в места формирования новых социальных иерархий и стратегий выживания. Во-вторых, голод впервые получил общепризнанное медицинское определение «алиментарная дистрофия», породившее термин «моральная дистрофия». В-третьих, голод доказал значимость ленд-лиза как важного источника победы советского народа в войне. Все эти новации в изучении довольно специальной тематики дают возможность исследователям поразмышлять о проблемах категоризации тех или иных явлений и эвфемизации тех или иных понятий, о когнитивном потенциале и возможностях прочтения различного источникового материала, о природе, логике и динамике социокультурных изменений в чрезвычайные периоды общественного развития.
Вторая мировая война, советский союз, продовольственное снабжение, паек, энергетический индекс, голод, блокадные дневники, дистрофия, ленд-лиз
Короткий адрес: https://sciup.org/147245179
IDR: 147245179 | УДК: 94(47+57)"1941/1945":930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-141-149
Текст научной статьи Энергетический индекс, "моральная дистрофия" и ленд-лиз: новый взгляд на продовольственную ситуацию в СССР 1941-1945 годов
рамки работы при этом вобрали в себя практически все территории, контролировавшиеся во время войны сталинским правительством, что открывает широкие возможности для перспективных сравнений опыта СССР с опытом других стран, а также временно оккупированных советских территорий.
Название книги, в котором на первое место поставлено слово «голод», в свете дискуссий вокруг его семантики кажется слишком категоричным. Несмотря на то, что современные концепции голода и его разновидностей (абсолютного или относительного, хронического или социального, глобального или массового, локального или регионального – (см. об этом: [Кастро, 1954; Сорокин, 2003; Devereux, 2000; DeRose, Messer, Millman, 1998; Famine Demography…, 2002; Ó Gráda, 2009, 2015; и мн. др.]) в книге никак не комментируются, по ее прочтении возможность говорения о голоде в СССР 1941–1945 гг. не выглядит преувеличенной. Этот эффект достигнут за счет использования во всех пяти главах монографии общего подхода к оценке обеспеченности населения продовольствием, основанного на таком показателе, как энергетический индекс. Объясняя, что это такое, авторы книги напоминают: рабочие оборонных и других предприятий, служащие и иждивенцы получали разный паек, питательную ценность которого принято считать прямым показателем их нутрициального (не)благополучия. Однако взятая сама по себе калорийность того или иного пайка, полагают американские исследователи, говоря о многом, не позволяет учитывать разницы в расходовании калорий теми или иными категориями населения. Именно эта разница между полученным и потраченным и есть энергетический индекс, который, как резюмируется уже во введении книги, был отрицательным у всех категорий населения СССР, за исключением, пожалуй, только узкого слоя управленцев высшего звена. От длительного хронического недоедания страдали даже рабочие, занятые на военном производстве и находившиеся на вершине иерархии централизованного обеспечения. Этому способствовало то, что война серьезно ухудшила условия их труда и заставила работать интенсивнее, т.е. расходовать значительно больше сил, чем в мирное время. Тот факт, что в годы войны через систему централизованного снабжения достаточного количества продовольствия не получал практически никто, сделал голод реальностью для всего населения страны. И он останется голодом, даже если исключить из статистики жертв голода блокадников и оставить только голодные смерти в тылу.
Могло ли быть иначе? Отвечая на этот вопрос в первой главе книги «Не хлебом единым: питание, рабочие и государство», В. Голдман приходит к однозначному выводу: не могло. Материальные условия войны сделали голод неизбежным, и власти, как бы они ни распорядились ограниченными продовольственными ресурсами, в таком положении могли только перераспределить голод, но не ликвидировать его. В противовес привычным для западной историографии негативным оценкам социальных мероприятий сталинского режима, В. Голдман утверждает, что продовольственная политика советского государства в годы войны, будучи основана на комбинации центрального и местного снабжения, бюрократического нормирования и рыночной торговли, коллективных и индивидуальных усилий, в целом «оказалась удивительно эффективной в плане организации скудных ресурсов» (Hunger and War…, 2015, с. 45). Без нее разобщенные индивиды никогда не смогли бы пережить экстремальных лишений военного времени. Иначе говоря, Великая Победа в войне, по праву принадлежа народу, была невозможна без целого комплекса мер, принимаемых государством, – мер, которые позволили индивидам полностью отдаться борьбе с фашизмом.
Продолжая логику книги в целом и В. Голдман в частности, Б. Шехтер в главе «Государственный котел и ложка солдата: паек в Красной армии» пришел к заключению, что голод был знаком даже фронтовикам. При этом для них, постоянно находившихся рядом со смертью, пища стала означать значительно больше, чем просто еду: когда выжившие после боя солдаты ели драгоценный хлеб, полагавшийся погибшим, они осознавали, что в отличие от убитых еще живы. Но мужчины и женщины на фронте были связаны не только этим чувством. Со всеми их различными бэкграундами, продолжает Б. Шехтер, они делили общую кулинарную культуру, получая примерно одинаковые порции щей и каши, переживая одни и те же периоды объедания и недоедания и используя одинаковые тактики выживания. Б. Шехтер уверен, что именно благодаря игнорированию кулинарных особенностей служивших в ней народов накормить Красную армию, а также гражданское население в районах ее пребывания (например, в 1945 г. в Берлине) в целом удавалось даже в самое тяжелое время.
Особняком в книге стоят третья и четвертая главы, связанные с темой блокадного Ленинграда. Автор первой из них («Очереди, столовые и политика места в дневниках ленинградской блокады 1941–1942 гг.»), Алексис Пери, попыталась показать, как голод в осажденном городе трансформировал социальные нормы, иерархии и взаимодействия. Тема еды стала самой главной для ленинградцев, а очереди и столовые - наиболее важным местом в городе. Люди, находившиеся там, олицетворяли блокадное общество в целом, и именно здесь они могли составить мнение о других ленинградцах и оценить свой статус относительно них. Как нельзя лучше этому способствовала линейная организация очереди. Описывая ее, блокадники делили стоявших в очереди людей не на молодых и пожилых, не на мужчин и женщин, не на взрослых и детей. Люди здесь четко делились на стоявших впереди тебя и стоявших за тобой. И, хотя социальные психологи, как отмечает А. Пери, склонны считать, что очередники обычно больше думают о тех, кто стоит после них, и жалеют их, в условиях ленинградской трагедии индивиды были более внимательны к стоявшим впереди, завидуя им и надеясь занять их место. Тем самым очереди, будучи местом постоянных ссор и даже драк, формировали не солидарность, а антагонизм, что, по мысли А. Пери, позволяет аттестовать блокадные дневники как контрнарративы к мифу о «блокадном братстве», отраженному в послевоенных воспоминаниях и интервью ленинградцев.
На этом фоне представляется уместным привести противоположное мнение С. Ярова, который не только характеризовал очередь как своеобразное «сцепление» людей, разрушавшее преграды между ними, но и подчеркивал: «Только здесь, под чужими взглядами, в скоплении людей, а не в пустых "выморочных" квартирах, человек должен был еще следовать цивилизационным правилам. А если не хотел этого делать, то встречал резкий и незамедлительный отпор - очередь дисциплинировала всех, порой жестоко, даже доводя их до гибели. Она сама обеспечивала порядок...» [Яров, 2011, с. 83; Яров, 2013].
Анализируя наблюдения авторов дневников, сделанные в столовых осажденного Ленинграда, А. Пери усомнилась в другом выводе С. Ярова о том, что, несмотря на снижение порога дозволенного, мелкие нарушения этики не привели блокадное общество к низвержению фундаментальных моральных ценностей (см. об этом: [Яров, 2011, 2014]). По мнению А. Пери, за столом, как и в очередях, поведенческие нормы, существовавшие до войны, исчезали, а порожденные голодом грубость и бесчувственность могли довести людей до состояния хищных животных. Таковыми становились дистрофики, которые менее всего были способны контролировать себя. Блокадная столовая определяла их как низший слой блокадного общества, как своего рода отверженных, похожих на других отверженных - так называемых «мусульман» в нацистских лагерях смерти (cм. об этом [Агамбен, 2012; Леви, 2010; Ryn, Klodzinski, 1987]) и «доходяг» («фитилей») в сталинском ГУЛАГе.
Однако столовые, более разнообразные в смысле набора социальных групп и типов, чем очереди, зафиксировали обновление представлений о социальных низах и верхушке общества. Как показывает А. Пери, голод, закрепив привилегии партийно-номенклатурной элиты, питавшейся лучше всех, сформировал в блокадном городе еще и новую «элиту». Поскольку ее избранность определялась близостью к продовольствию, к ней относились любые продработники - от директоров магазинов и столовых до продавцов и раздатчиц, которые рассматривались ленинградцами не просто как нечто отдельное от тех, кто питался по карточкам. Люди, связанные с распределением еды, воспринимались как армия врагов, живущая за счет других. Еще одну часть этой армии составляли так называемые «жены (и мужья) из столовых» (Hunger and War…, 2015, с. 186), т.е. те, кто торговал своим телом за еду. Чтобы выжить, к древнейшей профессии обращались не только женщины, но и мужчины, готовые за тарелку супа оказывать секс-услуги «аристократкам плиты». Непохожие на андрогинных, бесполых блокадниц и блокадников, «блокадные жены и мужья» самим фактом своего существования демонстрировали, что секс в осажденном городе стал наряду с пищей главной валютой, сохранив, как утверждает А. Пери, центральное место в его социально-экономической жизни. Классовой ненависти со стороны наиболее обделенных ленинградцев были также удостоены рабочие оборонных предприятий, питавшиеся по карточкам первой категории. Это было предсказуемо, поскольку к концу 1941 г., когда было закрыто порядка 270 предприятий, заводы с их столовыми стали восприниматься блокадниками как место, где едят, а не место, где что-то производят. Как результат, быть рабочим означало не выполнять определенную работу, а получать определенное количество еды, что побуждало многих думать о нехватке пролетарских ценностей именно у тех, кто считался их олицетворением.
Очереди и столовые, согласно А. Пери, реактивировали довоенные дебаты о классе, равенстве и правах, повышая напряжение в некоторых точках города. Новая социальная география осады не означала краха социалистических принципов и риторики («кто не работает, тот не ест», «каждому по способности, каждому по труду» и т.п.). Наоборот, именно эти принципы и риторики использовались современниками для характеристики ситуации внутри кольца, напоминая о довоенном времени.
Но насколько доводы и выводы А. Пери, приводимые здесь и не только здесь (см. [Peri, 2017]), убедительны? Кто же все-таки ближе к истине в своих оценках социального климата в блокадном Ленинграде – А. Пери или С. Яров? Как представляется, однозначного ответа на эти вопросы не может быть в силу специфики использованных этими авторами источников (см. [Зарецкий, 2012; Суржикова, 2014; Greyerz, 2010; Mascuch, Dekker, Baggerman, 2016; Paperno, 2009; и мн. др.]). Эго-источники, или источники личного происхождения, во всем многообразии их подвидов, по-разному отражают прошлое, что, возможно, несколько упустил из виду С. Яров. В то же время А. Пери, памятуя о названной особенности самосвидетельств, не смогла устоять перед масштабными генерализациями, нивелировав тем самым полифоничность дневниковых свидетельств. По нашему мнению, заочный спор между А. Пери и С. Яровым служит иллюстрацией к тезису о том, что любой эго-текст может быть прочитан и истолкован по-разному, оставаясь уникальным и практически бесконечно познавательным (см. [Эко, 2004]).
Р. Менли, автор главы «Алиментарная дистрофия: наука и семантика голода», продолжая тему блокадного Ленинграда, увидела в нем нечто большее, чем просто голодающий город. Он, по ее мнению, стал уникальной лабораторией, где голод как особое медицинское состояние был впервые комплексно изучен и наконец-то получил универсальное научное определение – «алиментарная дистрофия». Чистота эксперимента – experimentum crucis belli – была здесь предельной, поскольку врачи являлись частью изучаемого населения и создали целый ряд саморефлексивных описаний голода. Это отличало советский опыт изучения голода от аналогичных опытов других стран (Германии, Франции и др.), где исследования «голодной болезни» предполагали насильственную селекцию, принудительный отбор и массовые эксперименты над людьми (евреями, военнопленными, интернированными и т.д.). Такие исследования ознаменовали поворот к «колониальной модели» военной медицины, в рамках которой голод только наблюдался, но не лечился. В блокадном же Ленинграде с его ограниченными ресурсами такие попытки, как подчеркивает Р. Менли, активно предпринимались, хотя и не особенно успешно.
Так или иначе, но именно опыт Ленинграда позволил советским врачам – и не только врачам – впервые с начала 1920-х гг. назвать голод голодом, а также установить его (не)зависимость от тех или иных факторов. Клиническими данными было, к примеру, подтверждено, что дистрофия быстрее поражает мужчин, появляясь у женщин на два–три месяца позднее. Опыт Ленинграда, где женщины работали наравне с мужчинами, при этом доказал, что тяжелый труд тут ни при чем: «слабый пол» лучше справлялся с голодом в силу прежде всего более медленного, чем у мужчин, метаболизма. Изучая не только физиологию, но и психологию голода, советские медики также установили два поведенческих полюса дистрофии, превращавшей людей либо в вялых и апатичных, либо в легковозбудимых и раздражительных. Типичные же представления о жертвах дистрофии как о сходивших с ума от голода блокадная медицина так и не подтвердила, предоставив их области массовых стереотипов.
Термин «дистрофия», по мнению Р. Менли, быстро преодолел рамки профессиональной медицины, став хорошо знакомым и полезным блокадникам. Он помог им провести грань между просто голодавшими и теми, кто действительно оказался на грани жизни и смерти. Однако этим функционал термина «дистрофик» не исчерпывался. Филолог Владимир Люблинский зафиксировал в своем дневнике, что, если первоначально дистрофики воспринимались как жертвы голода, заслуживавшие сочувствия, то затем они стали вызывать пренебрежение и презрение. То же самое подметила и блокадница Софья Островская: «Дистрофики возмущали, потому что вовремя либо не выздоровели, либо не умерли. К ним относились как в бывшим людям…» (Hunger and War…, 2015, с. 239–240). В связи с этим Р. Менли признает удачным сравнение дистрофиков
Ленинграда с «мусульманами» Аушвица и других нацистских концлагерей, но не видит в отношении к дистрофикам в частности и отношениях внутри блокадного социума в целом того, что увидела А. Пери. Да, бранные коннотации понятия «дистрофик» окончательно победили над медицинскими в 1942 г., когда не только собственно дистрофиков, но и просто нытиков, отказывавшихся под предлогом голода выполнять те или иные обязанности и мечтавших сбежать из осажденного города, все чаще называли «моральными дистрофиками». Именно концепт «моральная дистрофия», подчеркивает Р. Менли, основывался на уверенности блокадников в том, что дистрофик может и должен сделать усилие над собой, что деградация не является неизбежной, что мужество и этическое поведение могут сосуществовать с массовым голоданием. Само появление термина «моральная дистрофия» делало и делает возможным восприятие блокадного города, где каждый страдал от голода, как оплота моральной чистоты и духовного сопротивления немцам. В тыловых районах страны и в ГУЛАГе все это было не так актуально, вследствие чего понятие «дистрофия» сохранило там медицинское значение. Понятие это, однако, за пределами блокадного Ленинграда вызывало дискомфорт и чаще увязывалось с проблемой производительности труда, а не проблемой жизни и смерти.
Тему труда и голода подхватывает в финальной, пятой главе книги Д. Фильцер («Голодная смертность в советских тыловых промышленных регионах в годы Второй мировой войны»). Выстраивая всевозможные статистические ряды, он выделяет два пика голодной смертности в тыловых промышленных районах. Первый из них пришелся на конец 1941–1942 гг. и коснулся детей и стариков, поскольку именно они острее всех ощутили шок от эвакуации и эпидемий тифа и кори, ставших следствием резкого сокращения производства противоэпидемических препаратов. Второй и по-настоящему страшный голодный кризис разразился в советском тылу в 1943 г. Его жертвами стали главным образом мужчины в возрасте от 30 до 59 лет, умиравшие либо от собственно голода, либо от голода, отягощенного состояниями, связанными с нарушением питания (чаще всего – туберкулезом). Наиболее пострадавшим регионом оказался Урал, где дисбаланс между потреблением и расходованием энергии был ярко выраженным в силу суровости климата, неразвитости местной продовольственной базы и тяжелого труда.
В 1944 г. ситуация с продовольственным снабжением тыловых промышленных районов СССР несколько улучшилась, хотя голод никуда не ушел – он просто стал географически неравномерным. Фактором, улучшившим ситуацию с продовольственным снабжением невоюющего населения, по мысли Д. Фильцера, стал прежде всего ленд-лиз. Будучи полностью направлен в армию в 1943 г., годом позже он обеспечил голодающим гражданским существенную поддержку в виде 270 калорий, соответствующих 140 граммам хлеба или 4–5 средним картофелинам в день. Переводя поставки по ленд-лизу в калории, Д. Фильцер также заметил, что российский историк М.Н. Супрун, перепутав килоджоули с килокалориями, завысил их питательную значимость как минимум на треть (см. [Супрун, 1996]). В противовес М.Н. Супруну, подсчитавшему, что ленд-лиза должно было хватить на обеспечение в течение 1688 дней всей Красной армии, Д. Фильцер остановился на показателе в 509 дней, подчеркнув, что мы можем только предполагать, как на самом деле использовались продукты, поставлявшиеся союзниками.
В книге нет заключения, что делает ее похожей на сборник статей, связанных одной проблематикой. К недостаткам книги можно также отнести отсутствие даже робкой попытки оценить продовольственную ситуацию в советской деревне. Вероятно, авторы посчитали такую попытку излишней, исходя из степени изученности этой темы в России и ее регионах (см. об этом, например, только по Сибири и Уралу [Анисков, 1993; Корнилов, 1990, 1993; Мотревич, 1993; и др.]). Главным же пробелом настоящего издания следует признать избирательное отношение к новейшей российской историографии (особенно историографии блокады [Дзенискевич, 2002; Жизнь и быт…, 2010; Жизнь и смерть…, 2001; Зотова, 2015; Пянкевич, 2014; Симоненко и др., 2003; и др.]). Это отношение оставляет открытым вопрос о том, с кем полемизируют авторы книги и насколько она встроена в наднациональный историографический контекст. Все это, впрочем, не мешает назвать исследование «Голод и война: Продовольственное снабжение в Советском Союзе в годы Второй мировой войны» состоявшимся. Специфическое понимание голода, предложенное авторами, заставляет увидеть в нем многогранный социокультурный феномен, смыслы которого пока до конца не постигнуты. Особенно удачными, хотя и небесспорными, нам показались разделы книги, посвященные социологии и психологии голода, а также его медикализации. Они, как представляется, будут интересны любому исследователю, поскольку дают возможность поразмышлять о проблемах категоризации явлений и эвфемизации понятий, о когнитивном потенциале и возможностях прочтения различного источникового материала, о природе, логике и динамике социокультурных изменений в чрезвычайные периоды общественного развития.
Список литературы Энергетический индекс, "моральная дистрофия" и ленд-лиз: новый взгляд на продовольственную ситуацию в СССР 1941-1945 годов
- Агамбен Дж. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012. 192 с.
- Анисков В. Т. Жертвенный подвиг деревни. Новосибирск: Б.и., 1993. 243 с.
- Васькин А. А. Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе. М.: Молодая гвардия, 2017. 670 с.
- Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. 429 с.
- Голодовки в истории России XVII-XX веков. Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2013. 271 с.
- Дзенискевич А. Р. На грани жизни и смерти. Работа медиков-исследователей в осажденном Ленинграде. СПб.: Нестор, 2002. 287 с.
- Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР, 1931-1933. М.: РОССПЭН, 2011. 542 с.
- Жизнь и быт блокированного Ленинграда: Сб. науч. ст. СПб.: Нестор-История, 2010. 327 с.
- Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде: Историко-медицинский аспект. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2001. 265 с.
- Зарецкий Ю. П. История субъективности и история автобиографии: важные обновления//Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 218-232.
- Зима В. Ф. Голод в СССР 1946-1947 гг.: происхождение и последствия. М.: Б.и., 1996. 265 с.
- Зотова А. В. Народное хозяйство Ленинграда. 1941-1945 гг. СПб.: «Полторак», 2015. 194 с.
- Ивницкий Н. А. Голод 1932-1933 годов в СССР. М.: Собрание, 1995. 195 с.
- Кастро Ж. География голода. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. 386 с.
- Кондрашин В. В. Голод 1932-1933 годов. Трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008. 518 с.
- Кондрашин В. В., Пеннер Д. Голод: 1932-1933 годы в советской деревне (на материалах Поволжья, Дона и Кубани). Самара; Пенза: Б.и., 2002. 432 с.
- Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990. 610 с.
- Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Свердловск: Б.и., 1990. 224 с.
- Корнилов Г. Е. Уральское село и война. Проблемы демографического развития. Екатеринбург: Уралагропресс, 1993. 174 с.
- Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Нов. изд-во, 2010. 195 с.
- Мотревич В. П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1993. 195 с.
- Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М.: РОССПЭН, 1998. 267 с.
- Пянкевич В. Л. Люди жили слухами: Неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб.: Владимир Даль, 2014. 478 с.
- Симоненко В. Б., Магаева С. В., Симоненко М. Г., Пахомова Ю. В. Ленинградская блокада. Медицинские проблемы -ретроспектива и современность. М.: Медицина, 2003. 160 с.
- Современная российско-украинская историография голода 1932-1933 гг. в СССР. М.: РОССПЭН, 2011. 468 с.
- Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia, 2003. 678 с.
- Супрун М. Н. Продовольственные поставки в СССР по ленд-лизу в годы Второй мировой войны//Отеч. история. 1996. № 3. С. 46-54.
- Суржикова Н. В. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость//История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург: АсПУР, 2014. С. 6-13.
- Эко У. Открытое произведение. М.: Академ. проект, 2004. 380 с.
- Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М.: Молодая гвардия, 2013. 310 с.
- Яров С. В. «Вы самый близкий и дорогой для меня человек»: благодарность за помощь в блокадном Ленинграде//Россия XXI. 2014. № 3. С. 168-187.
- Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг. СПб.: Нестор-История, 2011. 595 с.
- Яров С.В. Нравственные нормы блокадного Ленинграда//Вестник Академии права и управления. 2011. № 23. С. 203-213.
- Яров С. В. Соблюдение нравственных норм в блокадном Ленинграде: люди в очередях//История и историческая память. 2011. № 3. С. 79-90.
- Davies R., Harrison М., Wheatcroft S. The Economic Transformation of the Soviet Union, 19131945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 381 р.
- Famine Demography: Perspectives from the Past and Present/ed. by T. Dyson and C. О Grada. Oxford: Oxford University Press, 2002. 264 р.
- DeRose L. F., Messer Е., Millman S. Who's Hungry? And How Do We Know?: Food Shortage, Poverty and Deprivation. Tokyo: United Nations University Press, 1998. 199 р.
- Devereux S. Famine in the Twentieth Century. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex, 2000. 40 р.
- Ganson N. The Soviet Famine of 1946-47 in Global and Historical perspective. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 240 р.
- Greyerz K., von. Ego-Documents: The Last Word?//German History. 2010. Vol. 28. № 3. P. 273-282.
- Hunger and War: Food Provisioning in the Soviet Union during World War II/ed. by Wendy Z. Goldman and Donald Filtzer. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015. 371 p.
- Mascuch M., Dekker R., Baggerman A. Egodocuments and History: A Short Account of the Longue Duree//The Historian. 2016. Vol. 78, № 1. P. 11-56.
- O Grada C. Eating People Is Wrong, and Other Essays on Famine, Its Past, and Its Future. Princeton: Princeton University Press, 2015. 235 p.
- O Grada C. Famine: A Short History. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2009. 327 p.
- Paperno I. Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. Ithaca; London: Cornell University Press, 2009. 285 p.
- Peri А. The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad. Cambridge; МА: Harvard University Press, 2017. 337 р.
- Robbins R. Famine in Russia, 1891-1892. The Imperial Government Responds to a Crisis. New York: Columbia University Press, 1975. 259 р.
- Ryn Z., Klodzinski S. An der Grenze zwischen Leben und Tod. Ein Studie uber die Erscheinung des «Muselmann» in Konzentrationslager//Die AuschwitzHefte: Texte der polnischen Zeitschrift «Prze-glad lekarski» uber historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. Weinheim: Beltz, 1987. Bd. 1. P. 89-154.