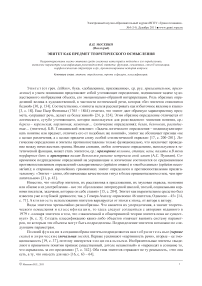Эпитет как предмет теоретического осмысления
Автор: Москвин Василий Павлович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Выразительные средства в дискурсах разных типов
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Охарактеризованы место эпитета среди смежных категорий и подходы к его определению, выявлены параметры классификации разновидностей эпитета: функция, семантика, способ номинации, морфологическая структура и др., проанализирована история вопроса.
Эпитет, определение, тропы и фигуры, классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14821687
IDR: 14821687
Текст научной статьи Эпитет как предмет теоретического осмысления
Известно, что «подбор эпитетов, их расстановка в предложении, их звуковая окраска, экономия или обилие в их употреблении – все это обусловлено литературной школой, эпохой, социальными корнями писателя, задачами, которые он себе ставит» [15, с. 204]. Эпитет как выразительное средство был известен уже в глубокой древности; так, у Гомера Ахиллу «присвоено 46 эпитетов, Одиссею – 45» [14, с. 71]. Активность использования эпитетов варьируется от эпохи к эпохе, от автора к автору.
Виды эпитетов чрезвычайно разнообразны. Что касается их упорядочения, а значит теоретического осмысления и классификации, то здесь следует согласиться с авторами изданного в 1979 г. словаря эпитетов в том, что «законченной и общепринятой теории эпитета пока не существует» [6, с. 3]. Создать классификацию каких-либо объектов означает выявить систему параметров, по которым эти объекты могут быть подразделены. Подразделение эпитетов возможно по следующим параметрам.
По своей функции в создании образа эпитеты подразделяются на изобразительные ( черные скалы ) и лирические ( печальная звезда ). Первые усиливают «картинность речи», вторые – ее эмоциональность [19, с. 37], поэтому именуются эмоциональными. Изобразительные эпитеты «выделяют в привычном понятии признак существенный, дотоле незаметный» и «переводят в сознание то, что скрывалось за его пределами» [7, с. 342]. Оба типа эпитетов отражают не ту реальность, «что она есть, а ту, что она есть для нас» [16, с. 63 – 64].
По способу номинации эпитетам с прямым значением ( желтый луч, зеленый лес ) противостоят два типа эпитетов с переносным значением: метафорические ( золотой луч ) и метонимические ( белый запах роз , зеленый шум (Н.А. Некрасов)). Метонимические эпитеты образуются в результате использования приема, который именуется смещением (ср. шум зеленого леса → зеленый шум ), поэтому метонимический эпитет называют смещенным. К числу тропов относятся только эпитеты с переносным значением. Приведем мнение Квинтилиана: «Главным украшением эпитета служит переносное значение: “необузданная страсть”, “безумные замыслы”. Путем прибавления этих новых качеств эпитет становится тропом» [1, с. 237]. Метафорические и метонимические эпитеты именуют тропеическими.
Некоторые ученые ограничивают состав эпитетов одним номинативным типом. В словаре А.П. Квятковского читаем: «Эпитет – в собственном смысле, образная характеристика какого-либо лица, явления или предмета посредством выразительного метафорического прилагательного» [9, с. 359]. Такую же картину наблюдаем в словаре С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой, где эпитет как «образное определение, обычно выражаемое прилагательным-метафорой» считается видом тропов [12, с. 154, 155, 138], в пособии М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнева, где эпитет отнесен к «тропам метафорической группы» [10, с. 132].
По семантическому параметру выделяют эпитеты цветовые ( лазурное небо ), оценочные ( золотой век ), а также эпитеты, дающие психологическую, поведенческую, портретную характеристику лица либо характеризующие объекты по форме, размеру, температуре и т.д. (именно так сгруппированы эпитеты в словаре К.С. Горбачевича и Е.П. Хабло). Усилению подобных признаков служит функциональный класс эпитетов, суть которых «состоит в амплификации значения определяемого имени посредством повторения в определяющем основного признака определяемого» [11, с. 218]: белый снег , голубое море . Такой признак обязательно входит в соответствующее понятие [7, с. 340], поэтому эпитеты данного типа именуют тавтологическими, или плеонастическими. Они «выделяет идеальный типовой признак предмета, не внося ничего нового в содержание определяемого понятия» [8, с. 360]. Поскольку эпитеты этого класса «усиливают, подчеркивают какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета» [5, с. 59], т.е. служат актуализации признака, их логичнее назвать либо усилительными, либо, вслед за Г. Лаусбергом, эмфатическими [27, p. 304], тавтологическими же целесообразно именовать эпитеты, эмфатически повторяющие корень опорного слова: Ох ты, горе горькое ! Скука скучная, Смертная! (А. Блок).
В рамках структурной классификации принято выделять эпитеты простые ( дремучий лес ) и сложные, представленные полиосновными прилагательными: пшенично-желтые усы, угольно-черная борода, черногривый конь, Москва златоглавая, чужедальняя сторона . Сложный эпитет, «подобно тому как метафора есть краткое сравнение, представляет собой краткую дескрипцию» [29, p. 14]. Сверхсложные эпитеты используются в игровых целях, а также как прием иконической номинации: змея двухметроворостая (В. Маяковский; изображена длина змеи).
По степени освоенности эпитеты подразделяются на общеязыковые и индивидуально-авторские. Признаками общеязыковых являются воспроизводимость и частотность: белая береза, лазурное море, черногривый конь . Индивидуально-авторские эпитеты представляют собой, по В.М. Жирмунскому, «новые и индивидуальные определения» [8, с. 259 – 360]: колючие звезды (К. Паустовский), нецензурная погода (А.П. Чехов).
По степени устойчивости связи с определяемым словом эпитеты можно подразделить на свободные ( белоснежная скатерть, синие глаза ) и постоянные, образующие с определяемым словом «фразеологическое клише» (В.М. Жирмунский): туманный Альбион, светлое будущее . Иногда постоянные эпитеты определяют как «часто употребляемые традиционные эпитеты» [18, с. 171]. Однако по признаку частотности использования эпитеты следует подразделять на общеязыковые и индивидуально-авторские.
Одним из источников постоянных эпитетов является амплиация (лат. amplio «распространяю») – фигура, состоящая в прибавлении прозвищного определения к имени собственному. Амплиа-ция «всегда предполагает ту или иную мотивировку» [21, p. 689]: Существует древний философ, имя которого Гераклит, а обычный эпитет «темный». Гераклит «темен», потому что он говорил главным образом о противоречиях. Гераклит «темен» и потому, что он сохранился только в отрывках и неточных цитатах (В. Шкловский). Эпитеты, присоединяемые к именам правителей, именуют историческими: Н.Н. Муравьев-Амурский , Ярополк Окаянный .
Отличительная особенность постоянного эпитета – алогизм некоторых его употреблений, на что указывают А.Н. Веселовский, Ф. Миклошич, И.В. Шталь, В.Б. Шкловский; в этом случае значение эпитета расходится с реальностью. Такой алогизм может носить игровой характер. Так, в одном телерепортаже говорилось о желтых водах г о л у б о г о Дуная ; о нашкодившем африканце сказано: Взяли его под белы руки и из ресторана вывели . Нарочито алогичен и контрастный эпитет – определение, в основе которого лежит оксюморон: вечное мгновенье (А. Блок), веселая тоска (С. Есенин).
Эпитет может быть употреблен без определяемого слова, такое употребление именуется анто-номасией: Бужу я память о Двуликом / В сердцах молящихся людей (А. Блок), ср. двуликий дьявол . Квинтилиан определяет этот прием как «эпитет, который после устранения определяемого слова получает значение имени» [1, с. 236]: серый (о волке), косой (о зайце); такая замена приводит к субстантивации прилагательного.
При стилистическом подразделении выделяют эпитеты разговорные ( цветастая радуга ), газетные ( прогнивший режим ). Большая часть эпитетов составляет принадлежность художественной речи (речи книжной), следовательно, имеет книжный оттенок; вероятно, именно поэтому их использование считается «приметой возвышенного стиля» [23, p. 171]. Среди книжных отметим поэтические эпитеты ( легкокрылые мечты ). По мнению Квинтилиана, «эпитеты в прозе, если они ничего не добавляют к значению, избыточны», поэтому «используются в поэзии с большею частотой и свободой, чем в прозе» [30, p. 134]. В художественной речи встречаются народно-поэтические эпитеты – определения фольклорного происхождения, освоенные литературным языком ( красна девица , гусли звончатые ). Фольклорные эпитеты стоят за пределами литературного языка: ка-мешочки троеразные , рожь ужинистая . Приметами народно-поэтического и фольклорного эпитета считаются употребление краткой формы в функции согласованного определения ( бел-горюч камень , перекатное красно солнышко , красна девка ), сдвиг ударения ( сердце ретивóе , чара зеленá вина ), отличные от общеязыковых значения и лексическая сочетаемость: белая заря , головушка победная , пташечка плакучая (о кукушке).
Эпитеты поддаются и позиционной классификации. Дело в том, что при их использовании регулярно применяется гипербатон (греч. ὐπέρβατον «перестановка») – фигура акцентирования, состоящая в разделении связанных по смыслу слов, нередко в сочетании с инверсией и выносом одного из слов в сильную позицию фразы. В стихотворной речи гипербатон используется как прием метрической вольности. Видом этого приема является задержка эпитета: Над ним луч солнца золотой (М.Ю. Лермонтов). Гипербатон выражает «сильное движение души» [23, p. 214], однако сопутствующее ему «смешение слов» «ведет к неясности» [27, p. 319], синхизису (греч. σύνχισις «путаница») – путаному порядку слов, приводящему к неясности или двусмысленности речи. Б.М. Эйхенбаум отмечает «случаи запутанного, затрудненного синтаксиса» в стихах М.Ю. Лермонтова:
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
Вернем этой фразе прямой порядок слов: «Ты пошли лучшего ангела к печальному ложу воспри-ять прекрасную душу» [20, с. 97].
Рассмотрим возможности количественной характеристики эпитетов. Сквозной эпитет повторяется при нескольких опорных словах: Застенчивый укор | застенчивых лугов, | застенчивая дрожь | застенчивейших рощ… (А. Вознесенский). Ряд образных определений, «дополняющих друг друга» [5, с. 69] и дающих «разностороннюю характеристику» [25, p. 161] одного объекта, образуют цепочку эпитетов: золотистые ароматные сосны (В. Кожевников). Цепочку эпитетов, состоящую из двух единиц («парные эпитеты»), иногда именуют вилкой: Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке (И.С. Тургенев). «Я заметил, – отмечает Л. Озеров, – что эпитеты имеют обычай сбиваться в кучу, особенно часто в тройки; тройчатки эпитетов (ср. у Г. Лаусберга: «трио эпитетов». – В.М.). Редко они бывают полноценны, часто один ведет за собой другой и третий. Но дела всем троим не находится. Эпитет – не артельное понятие. Он – солист» [13, с. 385]. Этого же мнения придерживался и А. Блок. Вот что он писал о стихах одного молодого поэта: «И невозможно нагромождать эпитеты: “осенний бледный тихий день”» [4, с. 158]. Однако сам Блок может выстроить цепочку и из четырех эпитетов:
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!
Цепочки определений, подобные рассмотренным выше, создаются в результате применения приема, который называется нанизыванием эпитетов. На этой фигуре, частном случае амплификации, основан эпитетный стиль (англ. epithetical style ):
ВСЕ КРУГОМ
Страшное, грубое, липкое, грязное, Жестко тупое, всегда безобразное, Медленно рвущее, мелко-нечестное, Скользкое, стыдное, низкое, тесное… (З. Гиппиус)
На нагнетании эпитетов и перифраз основана систрофа (греч. συστρoφή «накручивание»), также представляющая собой вид амплификации. На этой фигуре построена знаменитая ода Г.Р. Державина «Бог».
Еще один способ сократить ряд эпитетов – замена одного из них однокоренным абстрактным существительным; данный прием называется отвлечением эпитета, ср.: холодные бледные осенние облака и холодность бледная осенних облаков (К. Бальмонт).
Выше шла речь об эпитетах в узком понимании этого термина – как о красочных прилагательных, «оттенивающих существительное» (П.А. Вяземский). При широком понимании в разряд эпитетов попадают наречия (пример из «Общей реторики» Н.Ф. Кошанского: непостижимо тайное провидение, ср.: непостижимое провидение), имена существительные (волшебница-зима) и даже деепричастия (Волны несутся, гремя и сверкая). Сосуществование столь различных трактовок приводит к тому, что и в лингвистике, и в литературоведении «понятие “эпитет” является в высшей степени зыбким и неустойчивым» [8, с. 355]. Узкого понимания эпитетов придерживаются такие ученые, как П. Фонтанье, Б. Дюприе, А.Н. Веселовский, К.С. Горбачевич и Е.П. Хабло, А.П. Евгеньева, В.М. Жирмунский, А.П. Квятковский; различных вариантов широкого – Г. Лаусберг, Л.А. Булаховский, Б.В. Томашевский. Широкая трактовка эпитетов характерна для германистов (И.В. Арнольд, Ю.М. Скребнев и др.), что представляется логичным, поскольку в английском языке прилагательные не вполне четко противопоставлены по своим морфологическим признакам словам иной частеречной принадлежности; в этом языке распространены и фразовые эпитеты – предложения или словосочетания, «графически, интонационно и синтаксически уподобленные слову», например: I-am-not-that-kind-of-girl look [2, с. 92]. Именно поэтому здесь становится возможным определять эпитет как «прилагательное или фразу, дающие характеристику лица или предмета» [28, p. 385]. Оба подхода имеют длительную традицию. Для русского языка более целесообразно узкое понимание, поскольку эпитеты подчинены обозначению признаков, а именно для их номинации предназначены в нашем языке прилагательные. Заметим, что в испанском языке, как и в русском, прилагательные четко противопоставлены по своим морфологическим признакам словам иной частеречной принадлежности, отсюда – доминирующая в испанистике узкая трактовка эпитета как «характеризующего прилагательного» [22, p. 165]. Такую же картину наблюдаем и в латинском языке, применительно к системе которого эпитет определяется следующим образом: «Эпитет – это прилагательное, изящно присоединенное к существительному с целью выразить какие-либо особые обстоятельства» [26, p. 337].
Список литературы Эпитет как предмет теоретического осмысления
- Античные теории языка и стиля. СПб., 1996
- Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990
- Базилина Н.М. О некоторых приемах использования эпитета в художественной литературе//Учен. зап. МГПИИЯ им. М. Тореза. Т. 63. Вопросы романо-германской филологии. М., 1971
- Блок А. О лирике//Собрание сочинений: в 8 т. М., 1960. Т. 5
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989
- Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979
- Горнфельд А.Г. Эпитет//Вопросы теории и психологии творчества. 2-е изд. Харьков, 1911. Т. 1
- Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977
- Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966
- Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. Л., 1969
- Лободанов А.П. К исторической теории эпитета (античность и средневековье)//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. Т. 43. № 3
- Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. М., 1996
- Озеров Л.А. Мастерство и волшебство: книга статей. М., 1972
- Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1982
- Рыбникова М.А. Введение в стилистику. М., 1937
- Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. М., 1970
- Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959
- Ухов П.Д. Постоянные эпитеты в былинах как средство типизации создания образа//Основные проблемы эпоса восточных славян. М., 1958
- Шалыгин А. Теория словесности. Петербург, 1916
- Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. Петербург, 1922
- Bullinger E.W. Figures of Speech Used in The Bible. London, 1898
- Carreter L.F. Diccionario de términos filológicos. Madrid, 1981
- Dupriez B. A Dictionary of Literary Devices: gradus, A-Z. Univ. of Toronto Press, 1991
- Fontanier P. Les Figures du discours/éd. G. Genette. Paris, 1968
- Galperin I.R. Stylistics. M., 1977
- Grant J. Institutes of Latin grammar. London, 1823
- Lausberg H. Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation for Literary Study. Leiden, 1998
- Merriam-Webster’s encyclopedia of literature/ed. K. Kuiper. N.Y., 1995
- Pope A. Preface to his Translation of Homer’s Iliad//The Iliad of Homer, translated by Mr. Pope. London, 1715. Vol. 1
- Quintilianus M.F. Institutes of oratory: or, Education of an orator. London, 1856
- Rowbotham H.J. A new derivative and etymological dictionary of such English works as have their origin in the Greek and Latin language. London, 1838