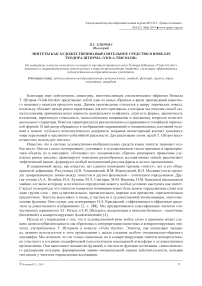Эпитеты как художественно-выразительное средство в новелле Теодора Шторма «Viola tricolor»
Автор: Блинова Инга Сергеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 5 (32), 2014 года.
Бесплатный доступ
На материале новеллы известного немецкого писателя прошлого века Теодора Шторма «Viola tricolor» выявлены и охарактеризованы используемые в данном произведении эпитеты, служащие эффективным художественно-изобразительным средством.
Художественно-изобразительная система языка, эпитет, функция, оценка, образ, семантика, атрибут
Короткий адрес: https://sciup.org/14822134
IDR: 14822134
Текст научной статьи Эпитеты как художественно-выразительное средство в новелле Теодора Шторма «Viola tricolor»
Благодаря игре лейтмотивов, символике, многочисленным стилистическим эффектам Новелла Т. Шторма «Viola tricolor» представляет собой одно из самых образных и ярких произведений известного немецкого писателя прошлого века. Данное произведение относится к жанру лирических новелл, поскольку обладает целым рядом характерных для него признаков, к которым мы относим способ сю-жетосложения, принципиальную важность центрального конфликта, строгость формы, лаконичность изложения, лирическую тональность, психологическое напряжение и постановку вопросов экзистен-ционального характера. Новелла характеризуется реалистическим содержанием и тончайшей лирической формой. В ней автор обращается к изображению переживаний и эмоциональных состояний человека в момент глубокого психологического конфликта, вскрывая неповторимый контакт душевного мира персонажей и предметно-событийной реальности. Для реализации своих целей Т. Шторм высокочастотно использует эпитеты.
Известно, что в системе художественно-изобразительных средств языка эпитеты занимают особое место. Они не только подчеркивают, усиливают в художественном тексте признаки и характеристики объекта, но и насыщают, обогащают его эмоционально, образно, расширяют привычные узуальные рамки лексемы, провоцируют появление разнообразных ассоциативных связей, расставляют эмфатический акцент, формируют особый мелодический рисунок фразы и целого произведения.
В современной науке, как известно, нет единого понимания термина «эпитет», нет и его общепринятой дефиниции. Ряд ученых (Б.В. Томашевский, В.М. Жирмунский, В.П. Москвин) четко проводят демаркационную линию между эпитетом и другим феноменом – логическим определением. Другие ученые (А.А. Потебня, И.А. Кунина, М.Э. Снегирев, М.М. Иванова, Н.М. Базилина) высказывали мнение, согласно которому и логическое определение может в особых условиях выступать как эпитет. Следует оговориться, что эпитетом в широком понимании может быть всякое определяющее слово или даже группа слов – имя существительное, прилагательное, наречие или причастие, определительное придаточное. Эпитеты выполняют в языке, в частности в художественной коммуникации, многочисленные функции. Они служат, как подчеркивает Н.А. Красавский, «эффективным и эффектным средством художественного изображения» [2, с. 288]. Мы придерживаемся классификации эпитетов отечественных германистов Э.Г. Ризель и Е.И. Шендельс, выделяющих в качестве базисных – оценочные (bewertende) и конкретизирующие (konkretisierende) [4].
Исходя из утверждения о том, что в художественной речи любое слово в принципе может служить целям изобразительности, мы обратились к интерпретации оценочных и конкретизирующих эпитетов, употребляемых Т. Штормом в новелле «Viola tricolor». Эпитеты, как показывает материал, активно используются в этом произведении с целью создания особого эмоционально-образного ландшафта. Мы полагаем, что не только оценочные, но и конкретизирующие эпитеты непосредственно участвуют в создании специфической психологически насыщенной атмосферы в художественном произведении. Они выполняют множество функций, в частности функции поэтизации, символического расширения ситуации, формирования лирико-эмоциональной оценки действительности, вызывая тем самым у читателя определенные ассоциации.
Известно, что одной из ведущих является оценочная функция языка. «Язык фиксирует все или почти все фрагменты человеческого бытия. При этом он их часто оценивает имеющимися в его арсенале многочисленными средствами. Не случайно оценку исследователи относят к наиболее значимым лингвофилософским категориям. Квалификативную деятельность языка мы рассматриваем как следствие реализованного человеком стремления оценивать “все и вся”. Оценочные суждения о фактах мира находят свое отражение в нашей коммуникативной деятельности. Они вариативно фиксируются в разных типах дискурса, в том числе и в авторском художественном дискурсе. Его когнитивная интерпретация, как известно, осложнена прежде всего метафорическим кодированием глубинных смыслов, системой индивидуально-авторских образов, адекватная расшифровка которых вызывает значительные трудности у читателя-интерпретатора», – справедливо утверждает Н.А. Красавский [3, с. 112]. К способам метафорического кодирования глубинных смыслов относятся, вне сомнения, и эпитеты.
В сюжетно-композиционной структуре новеллы «Viola tricolor», согласно нашим наблюдениям, рельефно выделяются описание внешности, описание поведения, эмоционального состояния и чувств героев (Агнесс и Инес). Значительное место в этой новелле уделяется художественному изображению заброшенного сада, дома и портрета Марии.
С позиции частеречной принадлежности большинство эпитетов в данном произведении выражено именами прилагательными. Они выполняют, как правило, функцию атрибута. Ряд эпитетов выражен именами существительными. В качестве эпитета выступают и определительные придаточные предложения.
Далее обратимся непосредственно к художественным примерам из новеллы Т. Шторма и их интерпретации. В этом произведении значительное место занимает дом, его описание, в том числе и через эпитеты, выраженные именами прилагательными. Для создания образа добротного, крепкого и надежного дома Т. Шторм использует прилагательные groß – «in dem großen Hause»; geräumig – «durch den geräumigen Flur»; breit – «der breiten, in das Oberhaus hinaufführenden Treppe gegenüber»; hoch – «zwischen den hohen Repositorien»; schwer – «die schweren Vorhänge». В приведенных примерах представлены конкретизирующие эпитеты.
В начале новеллы перед читателем предстает приветливый дом, обжитой, заботливо и дорого обставленный («ein weicher Sessel», «ein venezianischer Spiegel auf der dunkelgrünen Sammet tapete», «in einer Marmor vase», «über den weichen Fußteppich», «das Muster der kostbaren Tischdecke»), встречающий хозяина и его новую жену ароматом свежих цветов («Duft von frischen Blumensträußen»). Этот же дом, однако, может восприниматься персонажами, равно как и читателем, совершенно иначе. В минуты отчаяния дом казался Рудольфу зловеще одиноким и пустым («unheimlich leer und öde »). В момент наивысшего кульминационного напряжения дом опутывает сухими ветками черное дерево смерти («Er sah wieder den schwarzen Toten baum aufsteigen und mit den düsteren Zweigen sein ganzes Haus bedecken»). В приведенных примерах легко заметить отрицательную коннотация целого ряда лексем ( leer, ode, schwarz, Totenbaum, duster ), способствующих появлению у читателя широкого ассоциативного поля – это прежде всего чувство тревоги, состояние глубокого душевного беспокойства.
В оценочных эпитетах эксплицируется субъективное, личностное отношение человека к действительности в аспекте его ощущений, чувств, интересов, желаний. Так, описывая Инес и ее поведение до момента зарождения конфликта, автор приводит такие эпитеты, как schön, jung, freundlich, vor-nehm, gewissenhaft, ebenburtig . Причем эпитеты schon и jung выступают, пользуясь терминологией И.Р. Гальперина, в статусе «прикрепленных эпитетов» [1]. Т. Шторм использует их по отношению к молодой мачехе на протяжении всего произведения. Прикрепленные эпитеты, как правило, выделяют главные черты объекта или демонстрируют отношение к нему автора. Т. Шторм подчеркивает внешнюю и внутреннюю красоту Инес, ее молодость и неопытность. Эпитет jung расширяет в конкретном художественном контексте свою узуальную семантику и имплицирует значение «неопытный, незрелый»: «Das war es: ihrer Ehe fehlte die Jugend, und sie selber war doch noch so jung !» и «“Geduld!” sprach er zu sich selber, als er, den Arm um Nesi geschlungen, mit ihr die Treppe hinaufstieg; und auch er, in einem andern Sinne, setzte hinzu: “Sie ist ja noch so jung .”» [5].
По мере нарастания тревоги и напряжения сюжета новеллы меняется и авторский арсенал используемых художественно-выразительных определений. На смену эпитетам с положительной оценкой приходят эпитеты, отражающие конфликтность и трагичность событий, эксплицирующие тревожное эмоционально-психологическое состояние Инес: «tonlos», «schwer», «besorgt», «ihr schones kummer-volles Antlitz», «еin unentwirrbares Gemisch von bitteren Gefühlen », «ein unheimliches Dunkel », «ein Gedanke gleich einer bösen Schlange», « quälende Gedanken», «mit erstickter Stimme flüsterte sie angst-volle und verworrene Worte», «еine Todes angst» [5]. Еще не рожденный, но, безусловно, желанный ребенок воспринимается ею как « ein Eindringling , ein Bastard im eigenen Vaterhause» [5].
Приведенные эпитеты, с точки зрения их тематической классификации, относятся к таким семантическим сферам, как «напряженный внутренний мир человека», «мучительный мыслительный процесс».
Развитие сюжетной линии новеллы логично приводит к возникновению конфликта между новой женой Рудольфа – «прекрасной, юной» Инес – и десятилетней дочерью сорокалетнего ученого «маленькой, черноволосой» Агнесс, а также к психологическим метаморфозам персонажей. Автор дает подробное портретное описание Агнесс: «das kleine schwarzhaarige Mädchen», «das bräunliche Ge-sichtchen», « glänzendе schwarze Haarflechten», «ihre dunkeln Augen», «die schlanken Finger», «die ern-sten Züge des Kindes», « trotzig aufgeworfenen Lippen», «das rot und weiß gestreifte Kleid» [5]. Ребенок до сих пор тоскует по рано умершей матери и часто прокрадывается в кабинет отца, где висит портрет Марии. Т. Шторм описывает портрет, используя высокий изобразительный потенциал эпитетов: «Dar-über aber, wie aus blauen Frühlingslüften heraustretend, hing das lebensgroße Brust bild einer jungen Frau; gleich einer Krone der Jugend lagen die goldblonden Flechten über der klaren Stirn. – » Holdselig «, dies ver-altete Wort hatten ihre Freunde für sie wieder hervorgesucht – einst, da sie noch an der Schwelle dieses Hauses mit ihrem Lächeln die Eintretenden begrüßte. – Und so blickte sie noch jetzt im Bilde mit ihren blauen Kinder augen von der Wand herab; nur um den Mund spielte ein leichter Zug von Wehmut , den man im Leben nicht an ihr gesehen hatte» [5].
Маленькая Агнесс, постоянно пребывающая в состоянии тоски и отчаяния, остро нуждается в матери, на что указывают оценочно-эмоциональные эпитеты «leidenschaftlicher», «sehnsüchtig», «hartnäk-kig». Приведем ряд иллюстрирующих это утверждение примеров из новеллы: «Мit leidenschaftlicher Innigkeit hingen ihre Augen an dem schönen Bildnis», «mit sehnsüchtigen Augen», «Eine innere Stimme – der Liebe und der Klugheit gebot der jungen Frau, mit dem Kinde von seiner Mutter zu sprechen, an die es die Erinnerung so lebendig , seit die Stiefmutter ins Haus getreten war, so hartnäckig bewahrte» [5].
Агнесс внешне, формально отвергала мачеху, отказывалась называть ее «Mutter» (мама), но в то же время она неосознанно желала и ждала сближения с ней: «Nesi, deren dunkle Augen bei solcher herz-lichen Bewegung freudig aufgeleuchtet, war traurig wieder fortgegangen». «Dem Kinde war beim flüchtigen Aufblick der Ausdruck von Trauer in den schönen Augen der Stiefmutter nicht entgangen, und wie magne-tisch nachgezogen <…> war auch sie allmählich in jenen Steig geraten» [5]. И в момент наивысшего напряжения в развитии сюжетного действия Агнесс восклицает: «Meine liebe , süße Mama!» [5]. Усиленным стилистическим эффектом обладают в этой фразе оценочные прилагательные lieb и süß . Данные слова, как можно легко заметить, характеризуют позитивное отношение Агнесс к мачехе.
Заброшенный сад выполняет в новелле Т. Шторма символическую функцию. Сад символизирует состояние души героев. Он предстает перед читателем в виде неухоженных зарослей («Auch hier lag unten ein Garten, oder richtiger: eine Gartenwildnis», «der wüste Garten»), окруженных высоким забором («die hohe Umfassungsmauer») с наглухо запертой калиткой («Ines stand eben vor einer in der hohen Mauer befindlichen Pforte, die von einem Schlinggewächs mit lila Blüten fast verhangen war»). Некогда цветущие розы превратились в сухие плети («verdorrte Reiser»). До смерти Марии этот сад олицетворял счастье и идиллию («der traulichste Ort ihres Sommerlebens», «der Garten ihres Glückes»), долгое время он был символ смерти, крушения надежд («ein Garten der Vergangenheit», «Das ist ein Grab»), призраком в лунном свете («Der weiße Kies zwischen den schwarzen Pyramidensträuchern schimmerte ge- spenstisch»). Рудольф долгое время не может преодолеть боль потери и предпочитает забросить сад, отгородиться от счастливого прошлого забором. Инес непроизвольно дает краткую, но верную характеристику отцу Агнесс: «Vater ist ein schlechter Gärtner». И лишь в счастливом финале новеллы, когда конфликт разрешен, а страхи и печальное прошлое остались позади, сад становится символом радостного будущего («Die fröhliche Zukunft des Hauses hielt ihren Einzug in den Garten der Vergangenheit»).
Суммируя изложенное выше, еще раз подчеркнем, что эпитеты играют важную роль в новелле Т. Шторма «Viola tricolor». Как оценочные, так и конкретизирующие эпитеты не только указывают на признак определяемого явления или объекта, но и придают этому признаку дополнительные смысловые приращения, дают индивидуальную окраску выражаемому предмету, служат задачам художественной выразительности и участвуют в создании неповторимой атмосферы произведения. Исходя из структурной (частеречной) классификации, мы установили, что подавляющее большинство эпитетов в новелле «Viola tricolor» выражено именами прилагательными.
Список литературы Эпитеты как художественно-выразительное средство в новелле Теодора Шторма «Viola tricolor»
- Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. М.: Высшая школа, 1981.
- Красавский Н.А. Эпитет как способ художественной экспликации образных признаков концепта «страх» в повести Стефана Цвейга «Жгучая тайна»//Человек в коммуникации: от категоризации эмоций к эмотивной лингвистике: сб. науч. трудов, посвященный 75-летию профессора В.И. Шаховского. Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2013. С. 286-294.
- Красавский Н.А. Олицетворение облаков в романе Германа Гессе «Петер Каменцинд»: аксиологический подход//Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 7(25), Часть 2. 2013.С. 112-116.
- Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. M.: Высшая школа, 1975.
- Storm Theodor. Viola Tricolor. Stuttgart: Reclam, 2006.