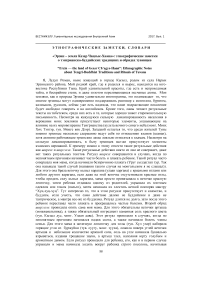"Эрзин - земля Кезер Ча.гыс-Хаана": этнографические заметки о тэнгрианско-буддийских традициях и обрядах тувинцев
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/148315782
IDR: 148315782
Текст краткого сообщения "Эрзин - земля Кезер Ча.гыс-Хаана": этнографические заметки о тэнгрианско-буддийских традициях и обрядах тувинцев
Я, Лудуп Роман, ныне живущий в городе Кызыл, родом из села Нарын Эрзинского района. Мой родной край, где я родился и вырос, находится на юго-востоке Республики Тыва. Край удивительной красоты, где есть и непроходимая тайга, и бескрайние степи, и даже золотом переливающиеся песчаные дюны. Мои земляки, как и природа Эрзина удивительно многогранны, это подтвеждает то, что многие эрзинцы могут одновременно поддерживать разговор с монголом, бурятом, калмыком, русским, сейчас уже есть надежда, что наше подрастающее поколение будет свободно говорить и на английском. Кроме того, ламы читают ритуальные тексты на тибетском, среди них есть и те, которые хорошо знают старомонгольскую письменность. Несмотря на кажущуюся сильную ламаизированность населения в веровании моих земляков присутствует некоторые элементы, указывающие на влияние на их мировоззрение Тенгрианства (культа вечного синего неба (монг. Мөнх Хөх Тэнгэр, тув. Мөңге көк Дээр). Загадкой остается то, что среди жителей Тувы именно эрзинцы несколько сдержанно ведут себя по отношению кхамов (шаман), хотя активно работающие эрзинские ламы лояльно относятся к кхамам. Несмотря на сильную ламаизированность, в быту эрзинцев все-же присутствует элементы кхамских верований. К примеру можно к этому отнести такие ритуальные действия как ширвэх и ширгэлэх. Такие ритуальные действия никто из лам не совершает, даже нет таких ритуальных текстов. Ритуал ширвэх совершаются в случаях, когда по непонятным причинам начинает часто болеть и плакать ребенок. Такой ритуал часто совершала моя мама, когда начинали безпричинно плакать (Уруг сылдаглап тур. Так она называла такой случай (названия такого случая на монгольском я не слышал)). Для этого она брала веточку кызыл карагана (улаан харгана) с красными иглами или любого другого карагана, если даже на этой веточке отсутствовали красные иглы, чтобы придать силу кызыл харагана, мама просто привязывала к веточке красную ленточку, затем ребенка отдавала одному из родителей, укрывала их плотным одеялом или тоном (пальто), затем начинала их хлестать веткой повторяя мантру “Хур-хур-хур”. Тут интересно то, что в этом ритуале присутствует и кхамство, и буддизм, если учесть, что само действие далеко не буддийское и даже не тантрическое, а мантра все-же из буддизма. Ритуал длится не долго, зато после этого ребенок переставал часто плакать и прекращались частые болезни. Второй обряд ширгэлэх проводила опять сама моя мама. Для этого обязательны веточки артыша (можжевельника), а также обязательный ингредиент каменная соль красного цвета (тув. Кызыл дус, монг. Улаан давс). Этот ритуал проводили в случаях, когда по непонятным причинам начинался падеж скота, а также начинали болеть члены семьи. Для этого мама в железную лопаточку для золы (тув. Хүл узар) набирала горящие угли из буржуйки (тув. суугу, монг. зууха), ложила поверх углей веточки артыша и небольшое количество красной соли, соль на угле начинала буквально взрываться, издавая трещашие звуки, а артыш тлел, наполняя юрту голубым и ароматным дымом. Если ритуал проводили для ребенка, его, как и в первом случае укрывали и мама начинала ходить вокруг ребенка строго посолонь, начитывая мантру Ом-а-хуң, а для освящения двора, мама со своей лопаточкой сначала обходила юрту, затем кошару или целиком двор (тув. аал-кодан), при этом повторяя всю ту же мантру. Моя мама не была кхамом, удаганом (шаманка). Могу с уверенностью сказать что она была правоверным буддистом. Она с философией буддизма была знакома с самого детства, на это видимо повлияло то, что ее родные дяди были ламами, один даже хелином (гелонгом — человеком, принявшим полный свод монашеских обетов буддизма). Она хорошо знала чурагай (монг. зурхай), буддийскую астрологию, и свои знания по астрологии передала мне. Коренным учителем моих родителей и старших братьев и сестры был монгольский лама из Завханского аймака Монголии Аажа башкы (Гончигийн Гэндэнжамц хувилгаан, 1920–1986). Этот учитель ушел из жизни в конце лета 1986 г., при этом после него из его физического тела ничего не осталось. Его родственники говорят, что через день на том месте, где было оставлено его тело, осталось только ритуальное одеяло “номийн хөнч (ж)өл, которым укрывают тело.
Выше, где я привел примеры ритуалов, по моему представленю, относящиеся к кхам ритуалам, чтобы показать, что кхамские традиции не совсем вытеснены ламами из жизни эрзинцев, но все-же в ритуалах массового характера таких, как освящение оваа присутствие кхама в настоящее время не наблюдается. Это касательно кхамской традиции. Я эти примеры привел с целью, чтоб мои друзья, последователи традиции кхам, больше обиду не держали на моих земляков. Но все-таки стоит отметить то, почему в наши дни эрзинцы откровенно игнорируют кхамов. Из наиболее распространенных слухов можно привести следующее: не все, только некоторые кхамы при совершении освящения оваа, ведут себя несколько непривычно. Рассказывают, что некоторые эрзинцы присутствовали на таких ритуалах, проводимых кхамом, где-то в другом кожууне. Во время поднощения саң, кхам, мог одну рюмку сержема (поднощение водки) выпить сам, вторую брызнуть в огонь, а в конце ритуала кхам просто засыпал без задних ног. Потом еще один момент, традиционно в Эрзине не принято женщинам подниматься на оваа, тем более проведение ритуала удаганом (женщина-кхам) могут вообще не понять и не принять. Почему такое отношение к этой традиции у эрзинцев, видимо, требует отдельного исследования. В каждой семье есть для опрыскивания молока и чая ритуальная ложечка “Тос карак”. Думаю, что этот предмет называть, что он из традиции кхам, можно только с большой натяжкой, т. к. у ложечки “Тос карак” (букв. Девять глаз) имеется 9 небольших и неглубоких углублений. Эти углубления можно интерпретировать по-разному — с буддийской точки зрения восемь боковых углублений можно объяснить как символ восьми направлений, т. е. сторон света, а центральное углубление как символ верха (зенит) и низа (надир). Итого все 10 направлений, сторон света, постранство которых наполняют все живые существа, а также будды и бодхисаттвы десяти направлений. Буддизм в Эрзине представляет тантраяна, о чем свидетельствуют не только ритуалы, проводимые ламами, но и наскальная надпись, которая есть на территории села Нарын, а также и антропонимы (личные имена) жителей кожууна. Например, такие фамилии как Яндак, Хиругаа (см. Янгдак Хэрука) Комбу (см. Гонбо Чагдругба, Шестирукий Махакала), Дамдын, Бавуу и другие личные имена, которых здесь трудно даже частично перечислить.
Кроме всего этого просто невозможно не обратить внимание на культ Тэңгри в веровании жителей Нарына, где центральное место занимет пантеон пяти вместерожденных божест Дра-ла (Таван тэңгэр) (см. http://nandzed. . Число драл не ограничивавется только этими пятью божествами, есть еще и 9 драл (см. . В этом пантеоне центральное главенствующее место занимает божество боевого духа человека Да-Лха, иначе Дра-ла, который считается эманацией Ваджрапани. Одним из эманаций Да-Лха считается Царь Гэсар (см. buddhism/11465/
В Эрзине есть оронимы, происхождение которых тесно связано с именем Гэсар Тэңгера. В Эрзине проживают несколько родоплеменных групп наибольшими считаются: сояннар (сойдуут), кыргыстар (кыргысы), чоодулар и иргиты. Большинство из них до сих пор ведут кочевнический образ жизни, осевших в деревнях и переехавших в города меньшинство. Родиной соянов считается хребет Хаан-Көгей (Хаан – Хөхий). Ниже привожу фотографию. Со слов моего тестя, Боодей Дадара Идамовича, я узнал, что его родители ак сояны жили на Хаан-Көгей, поэтому он считает эту гору своей родиной. В период жесткой коллективации сояны при помощи сил НКВД насильно заставили всех соянов переехать на территорию Эрзинского кожууна. Несмотря на жесткий контроль, многие сояны обратно переехали на свою историческую родину. Именно горный хребет Хаан-Көгей связан с именем Гэсара Драла. Опять я обращусь к своим воспоминаниям, поскольку именно моя мама мне передала следующее сказание: “Однажды Кесер-Мңгис-Хаан решил узнать как живут его албаты-чон, которых он оставил жить в степях Эрзина. Для этого он прискакал на гору Хаан-Көгей и стал наблюдать, долго он смотрел в степные дали, но никого не увидел. Тогда он, решив лично объехать эти места, сел на своего боевого коня и полетел, но когда его конь пролетал над заснеженными вершинами, вдруг его стремень задел одну из высоких вершин горы и как следствие к его стремени прилип комочек снега. Герой, не обратив внимания на это поскакал дальше, и когда он скакал в жаркой степи, комочек снега, прилипший к его стремени (монг. дөрөө), расстаял, и капля талой воды упал, и от нее образовалось озеро. Царь на этом месте остановился, достал свой белоснежный туң (морская раковина), поднес к губам стал трубить, призывая весь народ собраться на этом месте. Волшебный звук туңа услышали даже те, которые переехали в очень далекие края, и разговаривая меж собой: “Это нас наш царь зовет” поспешил туда, откуда шел звук туңа. Когда весь народ собрался, Кесар-Чиңгис-Хаан выступил речью: “Раньше в этих краях не было воды, а теперь смотрите, тут есть пресное озеро. Оно образовалось от снежинки, которая была на моем дөрөө (стремени). Поэтому я это озеро назову Дөрөө-Нуур и вы тоже так называйте”. После чего весь народ и боги неба и земли, возрадовавшись чудесам царя, воздали ему восхваления. Далее царь поскакал на север и вдруг ему понадобилось высморкаться. Тогда он, как принято истинному номаду высморкался, и от его сморчков образовались еще два озера — Бай-Хөл и Дус-Хөл. Они оба соленые. Потом бесстрашный царь совершит еще и подвиг, вступив в битву с чудищем маңгыс. На территории сельского поселения Нарын есть река Тэс. Там в районе погранзаставы, на другом берегу реки Тэс, среди дюн стоит гора Гүзээ-Уул (букв. гора большой живот). Недалеко от этого местечка в степи из подземли начал вылезать маңгыс, который хотел поживиться всеми живыми существами. Тогда царь вступает в битву с чудовищем. В результате битвы победу одержал Гэсар. Справившись с мангысом, он отрубил косу чудовища и выбросил в степь, и от этой косы образовалась гора Гэзэг-Уул (Кежеге-Даг). Когда Гэсар распорол живот маңгыса, оттуда вышли много живых существ, которые благодарили Гэ-сара-Тэңгэра восхвалениями за свое спасение, и когда все существа вышли и спаслись, герой вытащил живот маңгыса, вытряхнул все его содержимое, т.е. потроха, от которых образовались дюны, а сам выброшенный живот превратился в гору Гүзээ-Уул.
Теперь о поисхождении реки Тэсийн-Гол, озера Успа-Хел и гор Улуг Хайыракан, а также Биче Хайыракан. Увидев, что в бескрайних степях живут очень много людей и разных живых существ, Гэсар понял, что им воды одного озера недостаточно, тогда и решил обеспечить всех достаточной водой. С такой благородной целью он стал искать источник воды и ушел далеко в Монголию. В Монголии он находит одну гору и сдвигает с места один большой камень, и с места, где лежал тот камень, внезапно прорывается мощный поток воды, и этот поток потечет по бескрайней степи. Кесар решил оставить коня и побежал за убегающей водой, которая возьмет направление на север. Поток воды далеко уйдет на север и на каком-то месте великий царь решил остановить этот необузданный поток воды. Для того, чтобы остановить поток, царь откуда-то вырывает одну гору и ставит поперек направления убегающей реки, но Тэс (на монг. прорыв) своим неукротимым характером и тут прорывается через горную преграду, разделив его на две части и от большей части образовалась гора Улуг-Хайыракан, а от меньшей — Биче-Хайыракан, преодолев эту преграду, река Тэс бежит дальше в западном направлении. Царь убегающую реку долго преследовал, но река не останавливалась, тогда Гэсар-Тэңгэр на пути бегущей реки делает ловушку, пробив землю кулаком, и Тэс уходит под землю, но не сдается, и где-то в степи вновь прорывается, в результате образовалась озеро Усба-Хел (см. подробно о Усбу-нуре .
Фото 1. Эрзинская степь