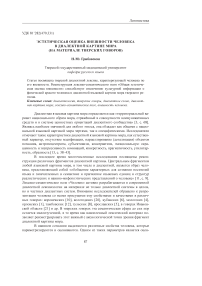Эстетическая оценка внешности человека в диалектной картине мира (на материале тверских говоров)
Автор: Грибовская Наталья Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена тверской диалектной лексике, характеризующей человека по его внешности. Реконструкция лексико-семантического поля «Общая эстетическая оценка внешности» способствует извлечению культурной информации о физической красоте человека в диалектной языковой картине мира тверского региона.
Диалектология, тверские говоры, диалектное слово, диалектная картина мира, лексико-семантическое поле, внешность человека
Короткий адрес: https://sciup.org/146281508
IDR: 146281508 | УДК: 81’282(470.331)
Текст научной статьи Эстетическая оценка внешности человека в диалектной картине мира (на материале тверских говоров)
Диалектная языковая картина мира определяется как «территориальный вариант национального образа мира, отражённый в совокупности коммуникативных средств и в системе ценностных ориентаций диалектного сообщества» [3, с. 68]. Являясь наиболее значимой для любого этноса, она обладает как общими с национальной языковой картиной мира чертами, так и специфическими. Исследователи отмечают такие характеристики диалектной языковой картины мира, как естественный характер, отсутствие кодификации, парцеллирование (детализация) объектов познания, антропоцентризм, субъективизм, консерватизм, эмоциональную окрашенность и экспрессивность номинаций, конкретность, прагматичность, утилитарность, образность [13, с. 38–43].
В последнее время многочисленные исследования посвящены реконструкции различных фрагментов диалектной картины. Центральным фрагментом любой языковой картины мира, в том числе и диалектной, является образ человека, представляющий собой «обобщение характерных для сознания носителей языка и запечатленных в семантике и прагматике языковых единиц и структур реалистических и наивно-мифопоэтических представлений о человеке» [11, с. 9]. Лексико-семантическое поле «Человек» активно разрабатывается в современной диалектной лексикологии на материале не только диалектной системы в целом, но и частных диалектных систем. Внимание исследователей обращено к репрезентации человека со всеми присущими ему свойствами и качествами в различных говорах: воронежских [10], вологодских [20], кубанских [6], мологских [4], орловских [1], тамбовских [12], тульских [8], ярославских [5], в говорах Ивановской области [21] и др. В тверских говорах эта семантическая сфера до сих пор остается малоизученной, в то время как накопленный лексический материал позволяет реконструировать этот важный с аксиологической точки зрения фрагмент диалектной картины мира.
В наивном сознании выделяются различные свойства человека, которые параметризируются и оцениваются. Одним из таких параметров является оцен- ка человека по внешности. В статье мы рассмотрим лексико-семантическое поле, репрезентирующее общую эстетическую оценку внешности человека. Анализ семантических и мотивационных особенностей тверской диалектной лексики, составляющей данное лексико-семантическое поле, способствует извлечению культурной информации о соответствующем фрагменте диалектной языковой картины региона.
Материалом для исследования является современная лексика тверских говоров, вошедшая в «Тематический словарь говоров Тверской области» [19], словарь «Селигер: материалы по русской диалектологии» [16], а также лексика из картотеки говоров Тверской области [7], собранная в последние десятилетия по программе ЛАРНГ в ходе диалектологических экспедиций.
Лексико-семантическое поле «Общая эстетическая оценка» составляют диалектные существительные и прилагательные, в значении которых содержится эстетическая характеристика внешних данных человека. Данное лексико-семантическое множество имеет двухчастную структуру, образованную находящимися в отношениях оппозиции микрополями, ядерные зоны которых представлены общерусскими лексемами красивый и некрасивый .
Микрополе «Красивый» составляют лексические единицы баско́й, ба́ский, взра́чный, ви́дный, гла́зный, го́жий, клёвый, клю́ жий, красави́к, красу́ля, крася́вый, краса́тый, красови́тый, краси́венный, краса́вишный, купа́ва, купа́вна, миловзгля́д-ный, пригля́дный, ра́жий, ражи́нный, ражи́стый, сли́чный, слю́ бный, слюбови́тый, слюбова́тый, смазли́вый, сура́жий, сура́зный, уклю́ жий (30 лексических единиц).
В полисемантических связях слов данного микрополя содержится информация о близости соответствующих понятий в народном представлении. Так, лексема гожий функционирует в говорах Тверской области значение не только в значении ‘красивый, с приятной внешностью’, но и в значении общей положительной оценки человека ‘хороший’. Данным значением лексема гожий обладает и во многих других русских говорах – владимирских, ярославских, курских. Плоха рожа, да душа гожа [17, т. 6, с. 27]. В тверских говорах общеоценочный положительный признак конкретизируется для выражения идеи красоты человека, что отражает народное представление: красивое = хорошее.
Диффузным значением обладают диалектные прилагательные ражий, ра-жистый, ражинный – ‘красивый, высокий, статный, сильный, физически здоро-вый̕’, в семантике которых отражена связь общего эстетического восприятия красоты человека с характеристиками его телосложения, роста и состояния здоровья. Ражий, ражинный, здоровый парень, полюбился мне красивый, ражий. Ражая дефка, хорошая, упитанная, высокая, видная. Если девка красивая, то эта приглядная, а про парня, ну вот што девки смотря, эта ражий. Ражистый, высокий человек. Ражистый – это здоровый, во какой ражистый. Ну, ражий, значит, высокий, широкий в плечах, ну как щас шкаф-та, што ли, гаварят [16, вып. 6, с. 7]. Здесь реализовано представление диалектоносителей о красивом человеке как здоровом, сильном и обладающем умеренной полнотой. Те же смысловые сближения присутствуют в семантике лексем красуля – ‘красавица, румяная, полная и рослая женщина’ [19, с. 11] и купава, купавна – ‘пышная, гордая красавица’ [Там же, с. 13]. Лексема купава, функционируя также в значении ‘гордая женщина’ [Там же, с. 57], создает зону пересечения смыслов красивая – гордая, отражая представление о внешней красоте как о поводе для гордого, заносчивого поведения. Лексема баско́й, имеющая значение ‘красивый, нарядный’ [Там же, с. 7], отражает смысловую близость характеристики по физической красоте и характеристики по одежде.
Рассмотрим исследуемое лексико-семантического поле в мотивационном аспекте. Идею красоты выражают словообразовательные диалектизмы красави́к, красу́ля, крася́вый, краса́тый, красови́тый, краси́ венный, краса́ вишный, лексическим мотиватором которых выступает существительное краса . Хороший парень – красавик писаный. А он рослый, чернобровый - красавик! На иконах рисуют - кра-сатые все, а они не такие были. Вот фильм покажут – там красовитая девчонка есть. Она другого нашла, не очень он был красовитый, но хороший парень. Вишь, какие красявые они здесь (на фотографии) [16, вып. 3, с. 127–130].
Мотив красоты реализован и в номинациях баский и баской, мотивированных диалектным существительным баса ‘красота‘ [17, т. 2, с. 127]. Тот же мотив содержат лексемы ражий, ражинный, ражистый, сура́жий, сура́зный , лексическим мотиватором которых является диалектное существительное ража – ’красо-та’ [16, вып. 6, с. 7]. Прилагательные клюжий и уклюжий в значении ’красивый, видный’ [19, с. 28] воплощают мотив красоты и порядка, будучи лексически мотивированы диалектным существительным клюдь - ‘порядок, красота’. Без клю-ди мы не люди. [17, т. 13, с. 318], Лексема сличный в значении ‘красивого вида, пригожий’ [19, с. 26] на современном этапе воспринимается как мотивированная существительным лицо . Но в словаре церковно-славянского языка прилагательное сличный определяется как ‘слаженный, гармоничный’ («и гласом сличным возгла-ша́ху» – и голосами согласованными воспевали ) [15, с. 317]. Вероятно, в данном случае можно также говорить о реализации мотива порядка, гармонии при формировании диалектного значения лексемы «красивый». В дальнейшем произошел процесс лексической ремотивации слова, в результате которого образовалась новая мотивационная связь ( сличный = с красивым лицом ), способствующая устойчивости лексемы с данным значением в тверских говорах. Сличная девушка говорят, когда лицом красивая [7].
Мотив любви содержится в прилагательных слюбный, слюбовитый, слю-бова́тый , мотивированных диалектным глаголом слюби́ть – ‘полюбить’ [17, т. 38, с. 327]. Мотив созерцания (созерцания с удовольствием) воплощен в ряде лексем : пригля́дный, миловзгля́дный, взра́чный, ви́дный, гла́зный. Ой, какая девушка глазная, глаз не отведешь. [16, вып. 1, с. 171]. Когда человек красивый, по-разному говорим: и гожий, и смазливый, и миловзглядный, и суразный, много так говорим [16, вып. 3, с. 281].
Антонимичное микрополе «Некрасивый» представлено лексемами вахрюта, грымзала, кособитка, ляпистый, лабазливый, мурза, невзрачный, неклю-жий, некорыстный, некорыстый, неприглядный, неслюбный, нескладиша, несамо-витый, несумовитый, несоблсоный, нестатный, нестатиша, нестатища, несурс1 -жий, несура́зный, облезья́на, страхолю́ да.
Ряд лексем образуют зону смыслового пересечения общей эстетической оценки человека и характеристики по телосложению. Лексема вахрюта имеет значение ‘некрасивый, с нескладной фигурой’ [19, с. 7], а лексема грымзала номинирует не только уродливую, но и грузную, толстую женщину. А женщина толстая, раздрябшая вся, тяжелая женщина – грымзала [16, вып. 1, с. 205]. В семантике лексем фиксируется не только сближение смыслов некрасивый ^ толстый, но и некрасивый ↔ худой. Лексемы некорыстный и некорыстый имеют значение ‘невидный, малопривлекательный’ [16, вып. 4, с. 113], однако в контекстном употреблении зафиксировано сближение с характеристикой по телосложению: Она некорыстная из себя-то, худенькая такая [Там же]. Также фиксируется смысловая связь характеристики внешности с характеристикой по состоянию здоровья. В тверских говорах данные лексемы функционируют в значении ’болезненный, хилый’: Сестра-то была така некорыстенька, ну, низенька, больная [Там же].
Зона пересечения с микрополем характеристики человека по одежде отражена в семантике лексем му́рза - ‘тот, кто некрасив или неопрятно одет’ и не-стати́ша, неста́ти́ща – ‘внешне непривлекательный, некрасивый, неряшливый человек’. Вот эта мурза на празднике, она плясать пошла, такой нестатный, некрасивый человек. Мурза уродливая как бы, грязнуля, и мужик мурза бывает [16, вып. 3, с. 313]. Нестатиша какая, одета плохо или косая от природы... Нестати-ша – вот про меня сейчас так можно сказать, я сегодня небритый [16, вып. 4, с. 127].
Мотивационный анализ микрополя показал, что большая часть лексем, характеризующих некрасивого человека (60 % от общего числа), образована префиксальным способом посредством префикса не-, способствующего выражению противоположности с оттенком умеренности отрицания признака. В данных номинациях реализованы мотивы отсутствия красоты, порядка или удовольствия при созерцании: невзра́чный, неклю́ жий, некоры́ стный, некоры́ стый, непригля́дный, неслю́ б-ный, нескла́диша, несамови́тый, несумови́ тый, несобла́зный, неста́тный, нестати́ -ша, нестати́ща, несура́жий, несура́зный .
Мотив отсутствия порядка реализован в прилагательном лабазливый – ‘некрасивый, невзрачный’. Вон девка лабазливая пошла, это значит некрасивая [16, вып. 3, с. 181]. Данное прилагательное функционирует в говорах также в значении ‘запущенный, грязный, замусоренный’ применительно к месту. Лабазливый лес после бури, неприятно там совсем. Не знаю, как вам у меня, уж больно дом у меня лабазливый [Там же]. Существительное лабаз обозначает в тверских говорах хозяйственные постройки. Образ хозяйственных помещений, которым обычно не свойственна внешняя красота, чистота и порядок, используется для характеристики человека с некрасивой внешностью.
Мотив плохо, небрежно сделанного также актуален для номинаций исследуемого микрополя. Прилагательное ля́пистый репрезентирует в тверских говорах некрасивого, нескладного человека. Он-то сам такой был ляпистый, а женка красивая [16, вып. 3, с. 244]. Одно из значений глагола ляпать в литературном языке – ‘делать что-либо наспех, кое-как, небрежно’ [18, т. 2, с. 212]. Аналогично существительное вахрюта в значении ’некрасивый, нескладный’ [19, с. 7], зафиксированное в этом же районе, мотивировано диалектным глаголом вахлять ‘делать кое-как, небрежно’ [17, т. 4, с. 75]. Образная трактовка некрасивого человека как плохо сделанного, «косо сбитого» содержится и в лексеме с прозрачной внутренней формой кособитка – ‘некрасивая женщина’ [19, с. 11].
Мотивация лексемы облезьяна является комплексной. С одной стороны, лексическим мотиватором выступает прилагательное облезлый в значении ‘с вылезшими очень редкими волосами, шерстью, перьями’ [16, т. 2, с. 539], в семантике которого сема «некрасивый» присутствует как потенциальная. С другой стороны, очевидна образная трактовка некрасивого человека посредством зооморфной метафоры, основанной на сравнении с обезьяной.
Cемантический анализ микрополей показал, что при общей эстетической оценке человека значимой оказывается характеристика по состоянию здоровья, по телосложению и по одежде. Положительную эстетическую оценку внешности получает нарядно одетый человек, а неряшливый человек воспринимается как физически некрасивый. Полнота тела получает неоднозначную оценку диалектоносите-лей, расцениваясь как красота человека и, напротив, как ее отсутствие. При анализе микрополей в мотивационном плане выявлены симметричные мотивы красоты / отсутствия красоты, а также порядка / отсутствия порядка. Мотив любви и удовольствия при созерцании обнаруживается в номинациях красивого человека, которого легко полюбить, на которого приятно смотреть. Для характеристики человека с некрасивой внешностью актуален мотив плохо, небрежно сделанного.
Количественный состав или объем микрополей также является показательным при реконструкции фрагмента языковой картины мира, поскольку «трудно отрицать значимость определенного круга значений, если носитель языка вновь и вновь возвращается к их лексической разработке» [2, с. 25]. Более детальная разработка того или иного сегмента поля может свидетельствовать о наиболее значимых для языкового сознания понятиях, «то, что существенно, оказывается названным, или многократно названным, или названным «дробно», с учетом предельного внимания к деталям хорошо знакомого и имеющего высокую значимость объекта» [9, с. 12].
Микрополя «Красивый» и «Некрасивый» асимметричны по объему: 30 и 23 лексические единицы соответственно. Для диалектной языковой картины мира типичным является значительное преобладание негативной лексики, характеризующей человека. Положительные свойства человека, как правило, не получают языковой репрезентации, в то время как отрицательные качества всегда маркируются в языке диалекта, фиксируя народное представление о нарушении нормы. Как отмечают исследователи, в говорах «чаще всего оценочные парадигмы организованы асимметрично с отклонением в сторону отрицательной оценки, с широким спектром эмоциональных реакций» [14, с. 71]. Однако в исследуемом лексико-семантическом поле наблюдается количественный перевес лексических единиц с положительной оценкой. Недостаточная разработанность микрополя «Некрасивый» по сравнению с микрополем, репрезентирующим красивого человека, может свидетельствовать о том, что отсутствие красоты наружности человека не являлось значимым параметром оценки человека в диалектной языковой картине мира региона. Эти выводы могут быть проиллюстрированы паремиологическими данными. Ср. пословицы: С лица не воду пить. Не ищи красоты, а ищи доброты. Не родись красивый, а родись счастливый .
Таким образом, реконструкция лексико-семантического поля, репрезентирующего общую эстетическую оценку внешности человека, дает представление об аксиологической сущности физической красоты в диалектной языковой картине мира тверского региона.
AESTHETIC ASSESSMENT OF A PERSON’S APPEARANCE
Tver State Medical University the Department of Russian Language
Список литературы Эстетическая оценка внешности человека в диалектной картине мира (на материале тверских говоров)
- Бахвалова Т. В. Лексические и фразеологическое средства характеристики человека в русском языке (на материале орловских говоров): автореф. дис.... д-ра филол. наук: 10.02.01 / Т. В. Бахвалова; Орл. гос. пед. ун-т. Орел, 1995. 40 с.
- Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007. 600 с.
- Демидова К. И. Лексическая семантика в региональном аспекте // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. № 3. С. 68-80.
- Гапонова Ж. К. Лексика, характеризующая человека, в мологских говорах // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры. М.: Элпис, 2006. С. 586-590.
- Гурская С. Л. Имена существительные общего рода, характеризующие человека, в ярославских говорах: автореф. дис.... канд. филол. н.: 10.02.01 / С. Л. Гурская; Ярославский гос. пед. ун-т. Ярославль, 2010. 219 с.
- Каде Т. Х., Пономаренко И. Н. Семантическое поле «Человек» в кубанском диалекте // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). СПб.: Ин-т лингвистических исследований, 2001. С. 219-222.
- Картотека говоров Тверской области (хранится на кафедре русского языка Тверского государственного университета, Тверь).
- Красовская Н. А. Тематическая группа «Человек» в тульских // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 2009. СПб.: Наука, 2009. С. 359-363.
- Леонтьева Т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2008. 280 с.
- Литвинова Т. А. Номинации человека как отражение языковой картины мира (на материале воронежских говоров): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Т. А. Литвинова; Воронежский гос. ун-т. Воронеж, 2011. 24 с.
- Одинцова М. П. Вместо введения: к теории образа человека в языковой картине мира // Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки (на материале русского языка). Омск: Омский гос. ун-т, 2000. Ч. 1. С. 8-11.
- Нивина Е. А. Лексика тематической группы «Человек» в говорах Тамбовской области: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Е. А. Нивина; Тамбовский гос. ун-т. Тамбов, 2003. 27 с.
- Радченко О. А., Закуткина Н. А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен // Вопросы языкознания. 2004. № 6. С. 25-48.
- Резанова З. И. Человек в ценностной картине мира (на материале сибирских диалектных лексических систем // Культура Отечества: прошлое, настоящее, будущее: сборник тезисов докладов 4-х духовно-исторических чтений. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1995. С. 69-74.
- Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 428 с.
- Селигер: материалы по русской диалектологии: словарь / Под ред. А. С. Герда. СПб.; Тверь, 2003-2017. Вып. 1-7.
- Словарь русских народных говоров. М.; Л.; СПб., 1965-2013. Т. 1-46.
- Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1985- 1988.
- Тематический словарь говоров Тверской области. Вып. 4. Тверь: Золотая буква, 2005. 191 с.
- Урманчеева И. С. Экспрессивы со значением лица в говорах Вологодской области: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / И. С. Урманчеева; Вологодский гос. пед. ун-т. Вологда, 2003. 292 с.
- Шулякина Ю. С. Лексика тематической группы «Характер и поведение человека» в говорах Ивановской области: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ю. С. Шулякина; Ивановский гос. ун-т. Ярославль, 2014. 198 с.