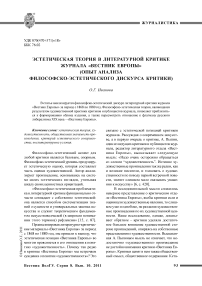Эстетическая теория в литературной критике журнала «Вестник Европы» (опыт анализа философско-эстетического дискурса критики)
Бесплатный доступ
В статье анализируется философско-эстетический дискурс литературной критики журнала «Вестник Европы» за период с 1868 по 1880 год. Философско-эстетическая теория, являющаяся результатом художественной практики критиков и публицистов журнала, позволяет приблизиться к формированию облика издания, а также пересмотреть отношение к флагману русского либерализма XIX века - «Вестнику Европы».
Эстетическая теория, художественность, общественная значимость произведения, критерий эстетического совершенства, внелитературные условия
Короткий адрес: https://sciup.org/14975229
IDR: 14975229 | УДК: 070(470+571)«18»
Текст научной статьи Эстетическая теория в литературной критике журнала «Вестник Европы» (опыт анализа философско-эстетического дискурса критики)
Философско-эстетический аспект для любой критики является базовым, опорным. Философско-эстетический уровень продуцирует эстетическую оценку, которая составляет часть оценки художественной. Автор анализирует произведение, основываясь на системе своих эстетических взглядов, учитывая шкалу своих ценностных ориентаций.
«Философско-эстетическая проблематика в литературной критике функционально отчасти совпадает с собственно эстетической: она является способом систематизации знаний о сущности и универсальных законах искусства и служит теоретическим фундаментом искусствоведческой (в широком понимании этого термина) рефлексии» [15, с. 87].
Проанализировав литературно-критические материалы «Вестника Европы» за период с 1868 по 1880 год, мы пришли к выводу, что эстетическая позиция «Вестника Европы» во многом проясняется в его отношении к понятию «художественность». Почему так редко в критике «Вестника Европы» мы встречаем суждения о понятии «художественность»? Это связано с эстетической позицией критиков журнала. Рассуждая о современном искусстве, а в первую очередь о критике, А. Пыпин, один из ведущих критиков и публицистов журнала, редактор литературного отдела «Вестника Европы», высказывает следующую мысль: «Надо очень осторожно обращаться со словом “художественность”. Истинно художественные произведения так же редки, как и великие писатели, и толковать о художественности по поводу первой встречной повести, значит слишком мало оказывать уважения к искусству» [6, с. 420].
В исследовательской мысли сложилось неверное представление о критическом отделе «Вестника Европы», якобы критики если и оценивали художественные явления, то слишком узко и однобоко, не разделяя художественные произведения по их художественной ценности. Наше исследование, однако, доказывает обратное – критики уделяли достаточное большое внимание художественной стороне произведений, опираясь на собственные представления о художественности. Высказанная А. Пыпиным мысль не означает, что недостаточно «художественное» произведение не достойно внимания критики «Вестника Европы». Критики ценят в нем также общественный смысл, общественное содержание. Кста- ти, А. Пыпин увлекался идеями Герцена и Чернышевского и был солидарен с ними в понимании роли литературы как отражения общественной жизни. А. Пыпин говорил о том, что в настоящий момент эстетическая критика есть не что иное, как податливость к мнимой художественности, необходимость иного критического направления критик объясняет общественным запросом, который требует больше исследований об обществе, а не о мнимой художественности: «Меньший объем чисто эстетической критики в настоящее время больше соответствует наличному объему художественных произведений и показывает также, что в обществе является больше запроса на иного рода критические изыскания, – именно на более прямые исследования об обществе и, вероятно, меньшая податливость к мнимой художественности» [6, с. 440]. Таким образом, действительность требует прямых исследований об обществе – и в этом должен быть главный ориентир для писателей. Необходимость господства общественной мысли в беллетристическом произведении объясняется требованиями времени: «С тех пор, как общество начало интересоваться всеми жизненными вопросами, и как в обыденную беседу в семейном кругу входят вопросы политические, научные и социальные, все они так тесно сплелись с жизнью, что выделить их из жизни невозможно. Точно так же их нельзя и выделить и из литературы» [11, с. 310].
А. Пыпин говорит о новой критике, ее новой роли и задаче, обусловленной современным развитием, определяя тем самым свою эстетическую позицию: «В области литературы критика теперь больше, чем когда-нибудь, стоит на исторической точке зрения, и несравненно более определенной, чем было во времена Белинского: это приобретение, и притом совершенно положительное, сделанное новою литературой. Если критика меньше, чем прежде, занимается красотами художественных произведений, то мы уже указали тому причину. Этих произведений на деле не так много, и критика, наконец, догадывается, что и самые художественные из них вовсе не “отражают” русскую жизнь так полно, как это воображали в прежнее время и как должно бы настоящее “искусство”» [6, с. 428]. Критик приходит к мысли о родовом «перерождении» критики: «Когда таким образом художественная сторона вопроса была приведена к ее настоящим пределам, то “изучение жизни”, какое делалось прежде на основании художественных произведений, приняло иной путь: прямое изучение этнографическое, экономическое, юридическое открывают теперь гораздо больше в этой жизни, чем открывает современное художество» [6, с. 428]. В то же время критик оговаривается, что подобная позиция вовсе не означает неуважение к области искусства, непризнание его идеального и воспитательного значения. «Нам кажется напротив, что новая критика слишком высоко ценит искусство, чтобы причислять к нему всякий только что сносный рассказ, повесть или роман; она думает только вместе с Белинским, что словом “искусство” не должно злоупотреблять, – как это делается достаточно и по сию пору» [там же]. Вновь ссылаясь на Белинского и его авторитет, А. Пыпин доказывает свою критическую позицию, во многом проясняя художественную политику издания. Новая роль и назначение критики – оценивать жизненные явления, а не художественные красоты произведения, которые, кроме всего прочего, еще и так редко встречаются. Кроме того, критика не должна зацикливаться на одних только художественных произведениях, беллетристике, критик расширяет само понятие критики, дозволяя ей оценивать и саму жизнь. А.Н. Пыпин говорил об однородности «новой критики» с критикой Белинского, о преемственности революционно-демократической критики 60-х годов (Пыпин сочувствовал представителям «отрицательного направления», представителями которого он называл Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина [4, с. 48]) и критики Белинского. Утверждается мысль об общественной направленности лучших образцов литературно-критического наследия. Н.Н. Мостовская в своей монографии также приходит к выводу о сближении Пыпина с революционными демократами в оценке деятельности Белинского как связующего звена между идеями 40-х и 60-х годов. Исследовательница верно заметила, что «с историко-литературной концепцией Пыпина, в основу которой был положен взгляд на литературу как на неотъемлемую часть общекультурного развития нации, солидаризировались многие публицисты журнала Стасюлевича» [4, с. 50]. В частности, с ним был согласен Е. Утин. Этот вопрос о сравнительной исторической ценности наследия 40-х и 60-х годов решался в журнале в многочисленных историко-литературных трудах Пыпи-на и критических статьях Е. Утина, К.К. Арсеньева. Важно то, что для своего времени это была наиболее прогрессивная точка зрения и она всесторонне обсуждалась именно в литературной критике журнала.
Критики «Вестника Европы» признавали такой подход к литературному произведению, когда «читатели и критика вслед за движением самой жизни, за явным стремлением самого “творчества”, стали гораздо восприимчивее, понятливее и требовательнее именно к общественной стороне “художественных” произведений, и даже при отсутствии чего-либо особенно замечательного в эстетическом отношении (замечательных вещей этого рода было действительно немного), интересовались и менее важными в эстетическом смысле, но новыми и смелыми в общественном смысле произведениями» [6, с. 419]. Таким образом, критики признавали большую ценность за общественной стороной произведения , нежели за эстетической, собственно художественной. Критики призывают «присматриваться ближе к реальному смыслу литературных изображений», а не воображать себя, окруженными эстетическими богатствами [там же, с. 420]. Как только «литература приучилась прямо говорить о деле, а не витать в идеалистических отвлеченностях», она приучила «ценить вернее свое поэтическое имущество» [там же].
А. Пыпин констатирует, что со времен Белинского эстетический вкус значительно изменился, потому что изменились условия существования литературы, как и изменилась роль критики, ее место в журнале: «“художественная” литература пошла вслед за жизнью, и все больше обращалась к предметам чисто общественного свойства. Она не имела в последние десятилетия талантов, равных Пушкину, Лермонтову, Гоголю, но в этом непосредственном изображении общественности, она, без сомнения, идет несравненно дальше... <...> Послегоголевская школа была слабее талан- тами, но ближе к самой жизни» [6, с. 418–419]. Критик защищает современное искусство и критику, не соглашаясь с мнениями об их упадке и вырождении. Современная эстетическая мысль, которую определили для себя критики и мыслители журнала, значительно отличается от тех идеалов, которые были ранее, так как само общественное развитие идет более быстрыми темпами, и гораздо важнее – связь современных произведений с жизнью, изображение в литературе общественных вопросов, причем непосредственно, определенность взглядов современных писателей. Современный идеал – это не пустое идеализирование, а это то, что «господствует над мыслью и чувством писателя и читателя и в философском трактате, и в политико-экономическом суждении, и в сатирическом очерке, и во “внутреннем обозрении”» [там же, с. 418], то есть критик доказывает, что критика вовсе не находится в состоянии упадка, она просто отвечает новым современным требованиям и условиям, и в соответствии с тенденцией литературы к публицистичности во многом размываются границы между искусством-неис-кусством, критикой и иными материалами и публикациями в журнале. И это не есть упадок и отсутствие идеалов, это есть новый уровень. Эта концепция А.Н. Пыпина очень важна для понимания не только художественной политики издания, но и его «лица» в целом.
Проанализировав литературно-критические статьи, мы можем говорить также и о том, что является объектом и источниками содержания в искусстве для критиков «Вестника Европы». Художественная правда в произведении – один из важнейших ориентиров для писателя, по мнению критиков «Вестника Европы», а идейно-смысловой анализ произведения – в основе творческого метода критиков журнала. «Мы несравненно более предпочитаем произведение, где есть глубокая мысль, серьезная идея, и для нас присутствие этой мысли делает вещь особенно драгоценною; но мы думаем, что там, где есть жизнь и правда, там есть идея, подчас не очень богатая, да ведь богатых идей вообще мало» [13, c. 376]. Искусство не может быть заключено в рамки каких-то правил, канонов, для него не должно быть никаких границ, художник может изображать «все, что ему угодно, но лишь бы в его произведении была жизнь, чувствовалась правда, и тогда он может делать все, что ему нравится, произведение его имеет тогда полное право на существование и уважение» [13, c. 376]. Наличие общественной основы в искусстве, по мнению «Вестника Европы», уже обеспечивает литературное произведение идейным содержанием, ведь в этом случае в творении художника есть жизнь и правда, что в свою очередь и является источником содержания в искусстве. А аналитическое мышление становится одной из форм освоения действительности для художника в представлении «Вестника Европы». Роль фантазии, воображения как художественнообразующих элементов также признавалась некоторыми критиками журнала. Это должно быть такое воспроизведение (не копирование) реальности, которое тронет чувство и мысль читателя.
Предметом искусства должна быть истина, правда без прикрас, природа человеческих отношений, иначе оно не будет выполнять основную свою функцию – служение обществу. Сама суть искусства – в оценке внутренней стоимости тех или иных явлений реальности, в его воспитательном, просветительском значении. Содержание произведения, в первую очередь, обусловливается известной обстановкой, историческим периодом, современным состоянием, настроением общества, одним словом, национальностью – это основная мысль, точка отправления для критиков «Вестника Европы», в частности, она высказана наиболее ярко в исследовании А. Пыпина «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» [8]. Данная публикация была частью новой монографии Пыпина, отдельно изданной в том же году и с тем же названием. Исследователь Д.А. Балыкин [1] отмечает, что эта книга стала настоящим откровением для современников и выдержала четыре издания. Литература – это одно из средств и выражений умственного и общественного развития народа, говорит А. Пыпин, тем самым подчеркивая интеллектуальную природу искусства. Эстетическая позиция, в соответствии с которой искусство есть результат интеллектуальной, умственной деятельности, и ценность его напрямую зависит от уровня образования писателя, его развития и таланта, отражается и в других требованиях критиков «Вестника Европы». Д.А. Балыкин справедливо заметил сходство «литературных мнений» Чернышевского и Пыпина, которые «не соглашались с “чисто эстетической” оценкой художественных произведений. Они рассматривали литературу как выражение жизни общества и интересов народа. <...> Пыпин использовал так называемый метод культурно-исторической школы. Рассматривая историю литературы как часть истории общества, Пыпин попытался проследить развитие общественного самосознания в России по “литературным мнениям” 20-х – 50-х годов» [1, с. 50].
Первична для художника действительность, жизнь, природа, что и является стимулом к творческому акту, по мнению Е. Утина, и значимость художественное произведение приобретает не из-за степени талантливости его создателя, а по мере его служения обществу. «Какое бы направление ни господствовало, в основании его все-таки всегда лежит природа, человек, жизнь, понимаемая более узко или более широко; а там, где есть жизнь, там есть и возможность действовать для таланта или для гения» [12, с. 836].
Е. Утин – яркая фигура в журнале, один из передовых критиков. Его эстетическая позиция во многом определяла направленность критической мысли журнала, его художественную политику. Он был защитником эстетики демократической критики, публицистически заостренной критики и горячо отстаивал жизненность демократической литературы. Н.Н. Мостовская в своей работе пришла к очень важному для понимания художественной политики издания выводу, что «провозглашенная Е. Утиным на страницах “Вестника Европы” литературная программа во многом перекликалась с концепцией Салтыкова-Щедрина, изложенной в статье “Напрасные ожидания”» [4, с. 63]. Е. Утин был автором злободневных литературно-публицистических статей о Ф.М. Решетникове, А.Н. Островском, Салтыкове-Щедрине, Гл. Успенском.
Критики не устают в разных формах повторять, что всегда должно стоять над всем, от чего должен отталкиваться художник, что неизменно должно сопутствовать его творчеству. Это «высокая идея служения добру и истине», против чего, кстати говоря, по разу- мению критиков «Вестника Европы», зачастую грешит Салтыков-Щедрин. В этом миссия художества и писателя. Художник должен создавать «картины и образы, имеющие неумирающее, вечное значение» [14, с. 413].
Искусство «должно служить отражением природы и жизни» [2, с. 99] – от этого в своем анализе отталкивается и итальянский критик Анджело де Губернатис. И, как замечает иностранный критик, существуют некоторые физические условия, необходимые для создания искусства, и все они присутствуют в итальянском типе художника: «Итальянский гений обладает двумя существенными качествами: впечатлительностью и силой; впечатлительностью для воспринимания прекрасного, и силой для его передачи» [там же]. Таким образом, в журнале был озвучен и такой взгляд на условия для истинной поэзии.
Сетуя на однобокость мнений и оценок различных критиков по поводу реалистичности произведений, критик А. Скребицкий в статье «Французское общество в новом романе Густава Флобера» пишет: «Объективность художника легко принять за индифферентизм, а реальное отношение к действительности – за цинизм. Художник заслуживает упреков, когда он, дурно или односторонне поняв действительность, клевещет на нее своими образами; но он должен быть свободен от порицаний, когда остается верным жизни» [9, с. 373]. Таким образом, художника нельзя, по мнению «Вестника Европы», осуждать за отсутствие прекрасного идеала, если этого нет в действительности. Содержанием искусства должна быть истина. «Пусть уж они (художники. – О. И. ) смотрят глазами хоть грубой, но верной действительности, на ее грубость и язвы, на ее редкие и бледные, но тем более дорогие, лучи света... Художник должен быть воплотитель того, что носит в себе, молча или бессознательно, все общество, которого он чадо, а не нарядная прелестница...» [3, с. 455].
Простить исключение из литературы общечеловеческой идеи критики «Вестника Европы» не могли. Образованный вкус, по их мнению, требует соблюдения реальности. «Провозглашать совершенное отчуждение искусства от судьбы человечества, значит кастрировать искусство, осуждать его на бес- плодность» [5, с. 317]. Однако в этой же статье критик Л. Полонский делает весьма существенную оговорку: «Что всегда найдутся истинные таланты, которые, по временам, будут делать фантастические скачки, что в жизни поэта всегда будут минуты, когда его собственная личность, фантазия, причуда покажутся ему превыше, законнее всех целей человечества – это естественно. <...> Требовать неотлучной службы поэта обществу нельзя» [там же].
Что же такое искусство для критиков «Вестника Европы»? В самом общем смысле «Вестник Европы» так определяет понятие произведение искусства: «Всякое литературное произведение есть выражение словом известных идей» [10, с. 452]. Литература, искусство, в представлении критиков журнала, – это «отрасль человеческой деятельности, в которой по преимуществу отражается целое общество» [12, с. 846], и, как всякая отрасль человеческой деятельности, она имеет свои функции. Литературу критики журнала называют барометром общественных изменений [7]. Критический метод критиков «Вестника Европы» предполагает взгляд на роман не как продукт единовременного, внезапного творчества, а как на выражение продолжительного нравственного и умственного переживания.
Правдивое изображение искусством действительности в верных жизни образах, ситуациях предполагает, как отмечают критики журнала, отображение именно чисто национальных, принадлежащих определенной культурно-исторической общности реалий. «Чужие идеалы, не имеющие почвы в народной жизни, но почитающие за образцы, шаблоны неизменно снижают, опускают практически до нуля ценность произведения, долженствующего отражать то специфическое, национальное, народное, опирающееся на реальную действительность, определенную культуру» [5, с. 311]. Е. Утин в своих статьях осуждает разъединение литературы с требованиями народных интересов. Художественному произведению, по разумению критиков «Вестников Европы», дозволяется следовать только следующим канонам и правилам: народность, зеркальное отражение внутренней жизни общества, правда жизни, национальность. Если уже говорить о способах отображения жизни, то зеркало должно быть реалистичным, не искривленным. Карикатура и фарс неприемлемы, даже в обличительных целях. Потому-то «История одного города» Салтыкова-Щедрина оскорбляет критика «Вестника Европы» как некий вздор, пощечина общественному вкусу. Нет ничего хуже карикатурности и неоправданного вымысла: «Художественное представление действительности, даже в этнографическом отношении, ценнее, чем обличительно-беллетристическое, где правда смешана с вымыслом и где для яркости колорита автор принужден прибегать к карикатуре» [6, с. 430].
Список литературы Эстетическая теория в литературной критике журнала «Вестник Европы» (опыт анализа философско-эстетического дискурса критики)
- Балыкин, Д. А. Пыпин А.Н. как исследователь течений русской общественной мысли/Д. А. Балыкин. -Брянск: Наука, 1996. -235 с.
- Губернатис, А. де. Эскизы итальянского общества/А. Де-Губернатис//Вестник Европы. -1874. -№ 7. -С. 85-112.
- Ковалевский, П. Первые и последние шаги/П. Ковалевский//Вестник Европы. -1870. -№ 3. -С. 432-487.
- Мостовская, Н. Н. И.С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX в./Н. Н. Мостовская. -Л.: Наука, 1983. -215 с.
- Полонский, Л. Генрих Гейне и его жизнь/Л. Полонский//Вестник Европы. -1868. -№ 9. -С. 300-385.
- Пыпин, А. Об упадке современной критики/А. Пыпин//Вестник Европы. -1876. -№ 10. -С. 402-477.
- Пыпин, А. О сравнительно-историческом изучении русской литературы/А. Пыпин//Вестник Европы. -1875. -№ 10. -С. 623-688.
- Пыпин, А. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов/А. Пыпин//Вестник Европы. -1871. -№ 5. -С. 145-238.
- Скребицкий, А. Французское общество в новом романе Густава Флобера/А. Скребицкий//Вестник Европы. -1870. -№ 1. -С. 334-405.
- Спасович, В. Вопрос о так-называемой литературной собственности/В. Спасович//Вестник Европы. -1874. -№ 6. -С. 423-496.
- Таль, Н. А. Шотландский брак и английская молодежь/Н. Таль//Вестник Европы. -1871. -№ 1. -С. 299-356.
- Утин, Е. Задача новейшей литературы/Е. Утин//Вестник Европы. -1869. -№ 12. -С. 812-876.
- Утин, Е. Художественная выставка в 1869 году/Е. Утин//Вестник Европы. -1869. -№ 11. -С. 356-416.
- Хроника. Новые книги. Библиотека современных писателей. Глеб Успенский. Разоренье//Вестник Европы. -1872. -№ 1. -С. 400-435.
- Шильникова, О. Г. Специфика функционирования эстетической проблематики в литературно-критическом тексте/О. Г. Шильникова//Вестник ВолГУ. Сер. 8, Литературоведение. Журналистика. -2005. -Вып. 4. -С. 81-95.