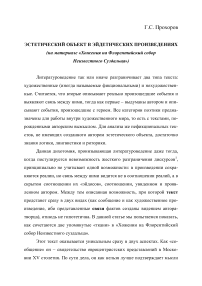Эстетический объект в эйдетических произведениях (на материале «Хожения на Флорентийский собор неизвестного суздальца»)
Автор: Прохоров Георгий Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 1 (4), 2007 года.
Бесплатный доступ
Литературоведение, фикциональный текст, нефикциональный текст, эйдетическое произведение, эстетический объект
Короткий адрес: https://sciup.org/14914045
IDR: 14914045
Текст статьи Эстетический объект в эйдетических произведениях (на материале «Хожения на Флорентийский собор неизвестного суздальца»)
Литературоведение так или иначе разграничивает два типа текста: художественные (иногда называемые фикциональными) и нехудожественные. Считается, что вторые описывают реально произошедшие события и выявляют связь между ними, тогда как первые – выдуманы автором и описывают события, произошедшие с героем. Все категории поэтики предназначены для работы внутри художественного мира, то есть с текстами, порожденными авторским вымыслом. Для анализа же нефикциональных текстов, не имеющих созданного автором эстетического объекта, достаточно знания логики, лингвистики и риторики.
Данная дихотомия, пронизывающая литературоведение даже тогда, когда постулируется невозможность жесткого разграничения дискурсов1, принципиально не учитывает одной возможности: в произведении сохраняются реалии, но связь между ними видится не в соотношении реалий, а в скрытом соотношении их «эйдосов», соотношении, увиденном и проявленном автором. Между тем описанная возможность, при которой текст предстанет сразу в двух видах (как сообщение и как художественное произведение, ибо представленные связи фактов созданы видением автора-творца), отнюдь не гипотетична. В данной статье мы попытаемся показать, как сочетаются две упомянутые «ткани» в «Хожении на Флорентийский собор Неизвестного суздальца».
Этот текст оказывается уникальным сразу в двух аспектах. Как «сообщение» он – свидетельство евроцентристских представлений в Московии XV столетия. По сути дела, он как нельзя лучше подтверждает мысли
Н. Голицына об общественном приятии Флорентийской унии на Руси: «Но для русского утешительна та мысль, что Святая Русь чиста от такого позора, потому что ее духовенство не провинилось тогда в подобных действиях. Российский митрополит Исидор, подписавший акт Флорентийского соединения не изменил своей присяге2 , чрез что Россия и избавлена была от кары небесной, постигшей весь Восток. Он удалился в Рим, когда великий князь Василий Тесный уничтожил самовластно постановление Флорентийского Собора. В Константинополе чернь восстала против решения Собора <…>. В России никто из духовных не прекословил; один великий князь поставил себя судьею над Вселенским Собором»3.
Но еще более интересен этот текст в плане поэтики. Он как нельзя лучше показывает специфику представления об эстетическом объекте, свойственную, на наш взгляд, эйдетическому периоду. Эстетическое и обычный мир не конкурируют, не автономно сосуществуют, но нераздель-но-неслиянно «присно» соприсутствуют один в другом. Эстетическое просвечивает в завершенности и оформленности мира реального. Причем указанное «мерцание» – художественный прием, специально организованный. Путешествие, выстроенное в подобной поэтической системе, будет говорить не о пространственном перемещении, не о познавательных моментах, а, прежде всего, о путешествии между двумя планами бытия, об акте созерцания, открывшем тождество эйдоса и реалии.
«Хожение на Флорентийский собор неизвестного суздальца» действительно имеет мощную коммуникативную составляющую: обосновывает европейскость России и истинность заключенной с Римом унией. При этом вместо противостояния / соперничества / преемственности России по отношению к Европе высказывается идея, согласно которой «Европа должна дышать обоими легкими».
Эта идея органичной и равноправной двусоставности Европы выте- кает не аналитически, а как результат ценностного личностного опыта пу- тешественника, приобретенный в ходе сюжетного развития. Созерцаемое единство христианского мира – есть не что иное как эстетический объект, преодолевающий видимую разобщенность реалий. Потому художественное пространство «Хожения…» состоит из двух уровней: дискретного физического пространства и незримо единого духовного.
На протяжении сюжета герой, за которым закреплена и функция повествования, последовательно перемещается из Москвы во Флоренцию и назад. Весь его путь распадается на ряд точек, между которыми указывается расстояние и время, за которое пройден тот или иной сегмент пути: «В лето 6945 поехал митрополит Сидор с Москвы на рождество Святыа Бого-родици. Приехал в Тверь на воздвижение честнаго креста <…>. А от Москвы до Твери 200 верст без 20»4. Подобная композиция, при которой указывается место выезда, день выезда, место прибытия и расстояние, реализуется как в пределах России, так и на всех европейских сегментах пути: «И поеха из Любка на конех в пяток троицыны недели, ночевал за четыре мили в граде Мелне»5 или еще дальше: «Павда же град велик велми и крепок. И оттоле до Ферары града 10 миль. И ту есме приехали по госпожине дни на 3 день»6.
Композиционная схема, очерчивающая пространство, сохраняется и в неправославном мире, как бы подчеркивая однородность физического мира. Единственное, пожалуй, изменение – это замена верст на мили. А значит, признавая единство физического пространства, между православной Русью и остальной Европой все же постулируется граница. Последняя, правда, не подается в контрастных категориях, а потому мили не приходят на смену верстам сразу по пересечению границы: «Первый град немецкий Коспир бискупа Юрьевскаго. Ту его сретил бискуп юрьевскыи с великою вестию, по своему праву немецкому … а от Пьскова до Юриева града 100 верст»7. В Прибалтике меняется правовая система, показываются другие обычаи, но мир еще долго, до этимологической границы Pax Slavia – Любека, – будет измеряться привычными верстами.
Вкрапленность России в западно-христианский мир показывается и через присутствие на немецких землях православных христиан: «Церкви же христианскые бе у них две: святыи Никола и святыи Георгии; христи-ань же мало»8.
При этом подчеркнем, что, вопреки расхожему мнению, само по себе использование по отношению к православию общеродового «христианское» отнюдь не свидетельствует, будто бы автор-творец воспринимает католиков как нехристей. Показателен, например, следующий эпизод: «И не по мнозех днех внезапну в полунощи нападе на нас буря … И роптанию бывшю в немцех; не нас ради сиа быша, но христиан ради. И приидоша немци госпожину глаголюще: видиши ли толику беду нашу – тме бывши и ветру не веющу … и мы того ради приидохом к тебе: помоли Бога, а мы поюще по своему »9.
Перед нами типичный мотив бури на моря, имеющий параллель в Библии, например, в книге Ионы: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу <…> Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем» [Ион. 1: 4 – 6]. Фраза, с которой обращаются немцы к митрополиту, действительно, почти полностью соответствует той, которой обратились мореплаватели к Ионе. Однако и расхождение более чем показательно. Если мореплаватели молятся разным богам, считая Бога Ионы за одного из, то немецкие мореплаватели призывают молиться Тому же Богу только иначе: «помоли Бога, а мы поюще по своему».
Тем самым размежевание православной и католической Европы, За- пада и Востока оказывается не концептуальным, но стилевым разделением. Суть с двух сторон одна. И смена «верст» на «мили» после бури и приезда в Любек становится знаковой, знаменуя возможность перехода на «другой стиль» без потери собственной культурной идентичности. Герои остаются самими собой, они по-прежнему выражают русское в Европе.
При этом облик пространства по дороге туда и назад значимо не сов- падает. Во-первых, полностью отсутствует указание на границу. Если нам указали на первый немецкий город, то «первый русский город» останется неизвестным. Во-вторых, система измерения в милях не возвращается по- сле границы к изначальным верстам: «От Дрютска до Орши 8 миль. От Орши до Дубровны 4 мили. <…> От Вязмы до Можаиска 26 миль. А прие- хали есмя в Можаиск сентября 14 день в среде, а на сторожи 18 день в не- делю сентября же. А приехали есми на Москву 19 день того же меся- ца…»
Несовпадение дороги, видения пространства сознанием путешественника объясняется именно эстетическим миром. «Реальный мир» изменился, потому что он стал лучше проявлять свой «эйдос». Например, путешественнику вдруг открывается «этническое перетекание» Запада в Восток: «От Сени до града Брыни 15 миль, а путь лесом на горы; и в тех гра-дех живут хавратяне, язык с Руси, а вера латыньская »11. По дороге во Флоренцию никаких «промежуточных народов», никакого «культурного пограничья» герой не обнаруживал. То, что он видел, было вкрапление «своего» стиля в среду стиля «чужого».
Изменение мира, увиденного на обратном пути, объясняется событием – заключением унии на Флорентийском Соборе. Тем самым переход границы (в данном случае стилистической) приводит к радикальному из- менению взгляда героя.
До объединения католический мир – это христианский, но все же «иначе осмысленный мир», что постоянно подчеркивается. Именно потому митрополит Московский встречается католическими иерархами. Потому указывается в западном пространстве на общехристианские праздники. Потому описывается, как митрополит посещает западные монастыри: «Есть ины монастырь, устроен белым камением хитро и велми твердо, а врата железны; а божница велми чюдна и есть в ней служеб 40; и мощей святых множество, и риз драгых множество <…> В том же монастыре был господин, и нам ту же бывшим и та вся видехом»12.
После объединения условное разделение исчезает, как только принимается уния, формулирующая принцип «стилистического перевода»: «Месяца иулиа в 5 день собору бывшу велику, и тогда написаша грамоты събора, их, како веровати в Святую Троицю, и подписа папа Еугении, и царь греческыи Иоан, и вси гардиналове, и митрополиты подписаша на грамотех коиждо своею рукою»13. Обратим внимание, что разрешается именно чисто стилевое противоречие: нет спора, во что веровать, но лишь как веровать.
Правда, под последним скрывается еще и разрешение от исторической вины – прощение греками латинян за взятие Константинополя: «И потом начаша пети весь собор латинскыи и весь народ, и начаша радовати-ся, зане бяше прощение приали от грек».
Разрешение «стилистической дилеммы» открывает возможность совместной службы: «Месяца того же в 6 день служил обедню папа Еугении опресноком в соборной божнице в имя пречистыя богоматере … Царю же греческому Иоану, седящу ему на уготованном месте, зрящу службы их … тако же и от грек и от руси миряне седяще…»14.
Литургия и Евхаристия – это проявление Христа. Иначе говоря, это приобщение к эйдосу, лежащему в основе христианского мира. Следовательно, уния – это одновременно и акт признания общности эйдоса (для
Востока и Запада), и момент проявления эйдоса в мире. Событие, таким образом, оказывается «двуплановым» : коммуникативным (устанавливает социально-политическую связь двух частей христианского мира) и эстетическим (проявление Божественного Замысла в мире). Два выявленных плана невозможно разделить. Полученное после Литургии папское благословение на возвращение в Россию15 (ситуация, вытекающая из эстетического момента) приводит к обнаружению героем культурного и этнического пограничья, хорват (ситуация реального мира).
Таким образом, между «художественными» (фикциональными) и «нехудожественными» произведениями существует пограничная область – тексты, описывающие реальный мир, но понимающие и представляющие его как эстетическое явление. Ткань внутреннего мира подобных текстов двойственна. С одной стороны, она жестко связана с фактической основой, во всяком случае, автор не создает реалии, свойственные исключительно автономному миру героев. С другой стороны, подобные тексты создаются не для описания фактов и не для выявления связей между ними. Они показывают, что «профанная» связь реалий – это сугубо внешний феномен. Под внешней связью подобные пограничные произведения видят «выходы» в принципиально иной мир, «выходы», обнаруженные, проявленные, созданные автором. Важно, что созданный на основе реалий «проявляющийся мир» оказывается эстетическим явлением: он завершен и полностью осмыслен, он константен и непротиворечив. В результате столкновения планов реалии тоже «завершаются», начинают проявлять свою «вечную» сущность, находясь фактически в «профанном» мире. При этом тип текста сказывается не только на принципе соотношения фактов, но и формирует определенный тип события и сюжета. Событие подобных текстов – это всегда момент проявления / узнавания эстетического в реальном, а инвариантный сюжет заключается в обретении эйдетического един- ства.
-
1 Тодоров Ц. Существует ли литературный дискурс? // Семиотика. М., 1983.
-
2 Здесь и далее выделения, свойственные цитируемым текстам, передаются нами курсивом. Наши выделения вводятся жирным шрифтом.
-
3 Голицын Н. Материалы к изучению, какие были отношения древней Восточной Церкви к Римскому Престолу // Символ. 1999. № 41. С. 121–122.
-
4 Хожение на Флорентийский собор Неизвестного Суздальца // Книга хожений: Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984. С. 137.
-
5 Там же. С. 140.
-
6 Там же. С. 142.
-
7 Там же. С. 138.
-
8 Там же.
-
9 Там же. С. 139.
-
10 Там же.
-
11 Там же. С. 149.
-
12 Там же. С. 145.
-
13 Там же. С. 146. Обратим внимание, что рассматриваемое «Хожение» ничего не знает о неподписании Марком Эфесским договора об объединении.
-
14 Там же.
-
15 Там же. С. 147.
Список литературы Эстетический объект в эйдетических произведениях (на материале «Хожения на Флорентийский собор неизвестного суздальца»)
- Тодоров Ц. Существует ли литературный дискурс?//Семиотика. М., 1983.
- Голицын Н. Материалы к изучению, какие были отношения древней Восточной Церкви к Римскому Престолу//Символ. 1999. № 41. С. 121-122.
- Хожение на Флорентийский собор Неизвестного Суздальца//Книга хожений: Записки русских путешественников XI-XV вв. М., 1984. С. 137.
- Там же. С. 140.
- Там же. С. 142.
- Там же. С. 138.
- Там же. С. 139.
- Там же. С. 149.
- Там же. С. 145.
- Там же. С. 146.
- Там же. С. 147.