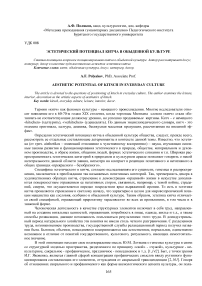Эстетический потенциал китча в обыденной культуре
Автор: Поляков А.Ф.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (32), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам позиционирования китча в обыденной культуре. Автор рассматривает досуг, интерьер, декор в качестве художественных аспектов эстетики китча.
Китч, обыденная культура, досуг, интерьер, декор
Короткий адрес: https://sciup.org/142142272
IDR: 142142272 | УДК: 008
Текст научной статьи Эстетический потенциал китча в обыденной культуре
Термин «китч» как феномен культуры - немецкого происхождения. Многие исследователи относят появление его к 60-70-м годам XIX столетия, когда торговцы Мюнхена словом «китч» стали обозначать не соответствующие должному уровню, но успешно продаваемые картины. Китч – с немецкого «kitschen» (халтурить), «verkitschen» (удешевлять). По данным энциклопедического словаря, китч - это подмена оригинала, халтура, дешевка, бесвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект.
Определяя эстетический потенциал китча в обыденной культуре общества, следует, прежде всего, рассмотреть ее отдельные составляющие детерминанты в контексте данной темы. Известно, что эстетика (от греч. аisthetikos – имеющий отношение к чувственному восприятию) – наука, изучающая основные законы развития и функционирования эстетического в природе, обществе, материальном и духовном производстве, в образе жизни, общении людей, формах эстетического сознания и т.п. Широкая распространенность эстетических категорий в природном и культурном ареале позволяет говорить о некой интегральности данной области знания, несмотря на контраст в рецепции позитивного и негативного в общих границах «прекрасного – безобразного».
Специфика эстетического в китче, согласно исследованиям его сущности, генезиса и распространения, заключается в преобладании так называемых позитивных категорий. Так, чрезмерность декора в художественных образцах китча, стремление к демонстрации «красивой» жизни в искусстве дополняются поверхностным отражением ее негативных сторон, связанных, например, с темой войны, страданий, смерти, что осуществляется нередко посредством ярко выраженной иронии. То есть в эстетике китча проявляется стремление к светлому началу, что характерно в целом для мировоззренческой позиции мещанства как сословия, особенно в обыденной культуре. Таким образом, эстетика китча отличается своей спецификой, отражающей прерогативу «красивости» во всех ее проявлениях, в том числе и в знаковой форме.
Человеческая деятельность в качестве структурных элементов включает в себя труд, направленный на создание витальных ценностей, отражающих потребность в пище, одежде, жилье и т.д., а также способы релаксации, дающие возможность пользоваться результатами этого труда. В доиндустриаль-ный период натурального хозяйства эти понятия не имели столь четкого разграничения. С разделением труда, возникновением производства, государственной службы релаксационный период получил название быта. Бытовое, обычное, повседневное воспринимается как естественное, нормальное, единственно возможное в отличие от понятий государственного, культового, ритуального, имеющих самостоятельное значение.
В этой оппозиции находит свое подтверждение мысль Ю.М. Лотмана о генезисе культуры в связи со структурной моделью пространства, разделенного по принципу «свой» - «чужой», культурное - некультурное, сакральное - профаническое, праздничное - повседневное и т.д. [1,142]. Быт, с точки зрения И.Г. Яковенко, является главной сферой концентрации профанических смыслов ввиду рутинного функционирования составляющих его элементов, отчуждения от сакральной трансценденции [2,101]. Говоря об отношениях сакрального и профанического как форме аксиологического аспекта культуры, он пола- гает, что они не являются онтологическими качествами того или иного культурного феномена. Эти отношения возникают из структуры ценностных отношений, устанавливаемых в том или ином контексте. Из данного суждения следует, что качественная характеристика таким феноменам дается в зависимости от общепринятой шкалы оценок. Нарастание профанности, как правило, отражает увеличение его утилитарно-прагматических функций. Отсюда можно сделать вывод, что хотя сакральное неизменно присутствует определенным образом в бытовом пространстве в виде традиционных элементов, преобладающая утилитарность быта позволяет считать профаническое начало как основополагающее.
Однако следует заметить, что оппозиция повседневного - праздничного в связи с развитием технического прогресса, улучшением быта, особенно в условиях города, в настоящее время имеет тенденцию к сближению. Если при традиционном укладе жизни данные понятия были довольно строго регламентированы, то сейчас происходит проникновение праздничных элементов в повседневность. Речь может идти, например, о пище, одежде, развлечениях. Заслуга в этом, как нам видится, по праву принадлежит массовой культуре и, в частности, китчу. Данное обстоятельство позволяет при анализе эстетического потенциала китча в обыденной культуре современного человека также касаться атрибутов внешности: одежды, украшений, макияжа и т.д., как проявления одной из составляющих эстетики быта.
В понятие быта, кроме жизнеобеспечивающей функциональности, входит препровождение свободного времени. Так, И.Л. Галинская выделяет в культуре свободного времени девять типов: культуру творческой личности, деятельной личности, частной жизни личности, культуру «трудоголика», общительной личности, домашнюю культуру, личности с неуравновешенной психикой, антикультуру свободного времени (алкоголизм, наркомания), религиозную культуру [3]. Типологическое многообразие свободного времени составляет понятие «досуг». Слово это в первоначальном смысле подразумевало раскрытие творческих способностей человека, возможности достижения им в результате так называемой высшей деятельности значительных духовных свершений, нередко в художественной форме.
Объяснение первоначального смысла понятия «досуг» мы находим у Аристотеля в «Политике», исходя из его миропонимания, свойственного духу того времени. По его мнению, «все занятия людей разделяются на такие, которые приличны для свободнорожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным» [4, 255 ]. Древнегреческий философ выделяет те работы, которые выполняются за плату, они отнимают досуг для развития интеллектуальных сил человека и принижают их. Достойным времяпровождением свободного человека, с его точки зрения, считается не труд, а досуг, который служит основным принципом нашей деятельности. В этом высказывании Аристотеля мы видим все составляющие для создания должного досуга: разделение труда, наличие свободного времени для занятий творчеством.
Все же единой точки зрения по поводу досуговой деятельности, определения ее структуры и содержания в специальной литературе практически не встречается. Однако, понимая роль досуга в формировании духовной личности, авторы, безусловно, придают ему культурную ориентацию. Например, В.Я. Суртаев полагает, что культурно-досуговая деятельность является «одним из важнейших средств реализации сущностных сил человека и оптимизации социально-культурной среды, его окружающей» [5, 31 ]. Другой автор, Н.Ф. Максютин, характеризуя досуг как «подсистему духовно-культурной жизни общества, функционально объединяющую социальные институты», видит его прямое предназначение в «формировании гармонически развитой, творчески активной личности» [6, 21 ]. Аналогичную характеристику досуга как фактора всестороннего развития личности дает В.Н.Орлов, полагая, что понятие «свободное время» не связано с передвижением к месту работы и обратно, сном, едой, уборкой квартиры и т.д. Оно, с его точки зрения, используется для учебы и повышения квалификации, самообразования и самовоспитания, занятий физкультурой и спортом, для чтения художественной литературы, слушания радиопередач, просмотра кинофильмов и телепередач, развлечений, общения с друзьями [7, 35 ].
Наиболее полную историческую панораму трансформации смысла «досуга» мы находим у Г.Г. Волощенко. По его мнению, досуг в культурологических науках сводится формально к свободному времени, когда не дается его точного определения: содержательно - к деятельности, исторически - от «высокого досуга» Аристотеля к римскому «праздному», а также от восточно-славянского (с XIV по середину XIX века) досуга, близкого к «высокой» деятельности. С середины XVIII века смысл досуга заключается в праздности [8].
Несмотря на преобладающую «пассивность» досуга в последнее время, результаты его все же ощутимы в различных видах декоративно-прикладного искусства, способствующего распространению различных народных промыслов в художественном оформлении, что составляет, как известно, определенную базу для позиционирования эстетического потенциала китча. Следовательно, досуг является основным компонентом обыденной культуры, предназначенным для художественного творчества, в котором потенциально проявляются принципы китчевой эстетики.
Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках данной культуры, кроме досуга, содержатся и другие художественно обозначенные области. Речь может идти о сакральных элементах в русле традиционной обрядности, которой также свойственно художественное оформление, а в последнее время нередко и китчевая направленность, отражающая так называемый фольклоризм. Известно, что причиной тому стало вполне естественное проникновение в традиционную культуру принципов массовости, что породило поверхностное отношение к сакрализации бытового мира вообще. Так, в китчевом аспекте с некоторой долей ироничности воспринимается сейчас презентация, например, казачества с его декорированием в стиле прошедшей эпохи. В то же время нельзя не заметить, что происходит своего рода переосмысление аксиологических констант в традиционности под воздействием современных тенденций социокультурного развития.
Согласно типологии культуры бытовой мир входит в понятие обыденной культуры, характеризующейся наличием таких ценностей, как дом, семья, дети, свободное время (досуг), каждая из которых, в свою очередь (согласно аксиологическому подходу), может иметь культурный оттенок. По мнению Э.А.Орловой, «обыденному пласту культуры соответствуют неспецифичные формы социокультурной практики - приватная личная жизнь, семейные и неформальные отношения и т.п.» [9, 10 ]. Все эти ценности неразрывно связаны с обычаями и традициями, отражающими сущность бытового мира. Человеку, наделенному творческим воображением, свойственно вносить в повседневную жизнь элементы художественности, выражающие его эстетические чувства. Однако, несмотря на дифференциацию данных культурных уровней, их творческое наполнение в художественном аспекте, судя по многочисленным примерам, в последнее время играет не последнюю роль при производстве китчевой продукции.
Возникая на стыке городской и деревенской субкультур, когда происходит смешение традиций и привычек, эстетических представлений, несоответствия формы и содержания, китч в обыденности вначале связывался с формированием мещанского сознания , провозглашавшего культ буржуазного уюта, домашнего очага с узорными занавесками, предметами прикладного искусства, всевозможными безделушками. Вспомним основные черты мещанства: «уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное искание покоя внутри себя и вне себя, темный страх перед всем, что, так или иначе, может вспугнуть этот покой... Мещанин любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам... Он всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам» [10, 365 ].
Мещанское сознание - это в первую очередь обыденное, овеществленное сознание. Почитание размеренного течения жизни, стремление к спокойствию, бытовым удобствам является неотъемлемой частью человеческого существования, не чуждого проявлению таких качеств, как любовь к семье, детям, своей стране. Подобные ценности являются неоспоримыми. Аксиологический аспект обыденной культуры в данном случае трудно переоценить. Вместе с тем, выражая негативное отношение к быту как фактору обыденности, многие исследователи имеют в виду отрицательные стороны бытовизма: консерватизм, граничащий с догматизмом, чрезмерность украшательства в быту, стремление к достижению престижа, самодовольство, тщеславие, которые возникают в сознании, ограниченном рамками окружающего бытового мирка. Подобное сознание не способно на неординарность, дерзновение мысли, полет фантазии, сопутствующие созданию высокохудожественных произведений искусства. Поэтому в современных условиях при широком распространении норм и законов массовой культуры в обществе, в отличие от традиционных эпох, большая вероятность продуцирования именно китчевых образцов, обусловленных его все возрастающим эстетическим потенциалом.
Несмотря на то, что китч присутствует во многих видах искусства, позиционирующего себя в обыденной культуре общества, эстетические потенции его проявляются наиболее ярко в дизайне, за что и критикуют чаще всего «китч-дизайн», как наиболее заметный, являющийся своего рода нигилизмом от архитектуры, отрицающий все ее предыдущие достижения. Основной идеей такого китча является насмешка над историей и художественными традициями, вкусами и стилями. Излюбленной темой являются псевдоисторическая архитектура и интерьеры. Современная мода, оперирующая с множеством стилей, предполагает чаще всего цитирование и обыгрывание старых художественных форм, образование между ними новых связей. Подобное смешение означает использование элементов того или иного стиля, соблюдение неких канонов, диктующих правила и пропорции сочетания предметов интерьера. Здесь, по мнению дизайнеров, работающих в этом направлении, следует, однако, различать китч как проявление дурного вкуса и китч как особый метод, который в талантливых руках способствует созданию серьезного направления в искусстве. Обычно используются отдельные детали стиля или интерпретация его в духе современных представлений о комфорте с применением новейших материалов и технологий.
Как правило, китч здесь порождается двумя крайностями: либо чрезмерным богатством и пресыщенностью, либо, наоборот, вопиющей, бросающей вызов бедностью. Особенно ярко потенциал такого китча проявляется в эстетике так называемого народного дизайна, утверждающего, что каждый человек обладает достаточным творческим воображением, чтобы лично оформить свое жилище и превратить его в произведение искусства. Такое мнение широко распространено в странах Запада, где подобный дизайн становится значительным явлением, когда качественно выполненным и стильным интерьером уже давно никого не удивишь.
Одним из примеров, способствующих проявлению китча в обыденной культуре, может служить достаточно распространенное предложение различных рецептов игры в «сам себе дизайнер» или «сам себе архитектор». Подобные рекомендации предназначены для состоятельных людей, уставших жить в однообразных стильных интерьерах и желающих проявить свой творческий потенциал, который нередко отражает нормы китчевой эстетики. Существует ли другой рецепт на этот случай? По мнению психологов, для избежания чувства однообразия достаточно через определенные промежутки времени делать перестановку мебели, и это не обязательно должен быть китч.
В нашей стране китч-дизайн в обыденной культуре проявляется в потакании вкусу некоторых заказчиков, чаще так называемых «новых русских», имеющих весьма специфическое представление о стиле и эстетике. Это может быть псевдоисторическое направление, выражающееся в романских и готических мотивах, построении псевдоантичных колонн, портиков, атлантов и кариатидов даже в типовых квартирах. Как правило, подобный китч-дизайн недолговечен и следует влияниям быстротекучей моды.
Растущие потребности, их разнообразие, на наш взгляд, в разумных пределах могут только приветствоваться, так как это свидетельствует о развитии человечества. Однако не стоит забывать о качественной стороне этих потребностей и, как говорили мыслители античности, об их умеренности, которая создает гармонию мира. Вот как комментирует дизайн, в частности, Е.Н.Карцева: «Дизайн - это эстетика, основанная на строгих научно выверенных пространственных и композиционных законах изобразительного искусства, эстетика сдержанности и пользы» [11, 48 ].
Сдержанность - есть показатель умеренности и вкуса. Следовательно, дизайн - это взаимосвязь эстетики и логики, признанная и утвержденная большинством или авторитетом профессионалов. Понятие дизайна в таком случае подразумевает публичный характер, критерии которого определились в результате единого мнения специалистов. Подобное можно сравнить с правилами поведения индивида в обществе, в соответствии с его нормативными законами, соблюдение которых обязательно для всех.
В случае проявления эстетической «самодеятельности» в области дизайна, например, личной квартиры, вполне можно согласиться с доводами В.Т. Шимко, определяющего китч в качестве «формы общественного сознания и, может быть, самой демократичной его разновидности», ибо наша задача заключается не столько в критической оценке феномена китча, сколько в анализе его эстетического потенциала, учитывая при этом различные точки зрения[12]. Удовлетворение индивидуальных творческих потребностей через дизайн интерьера той же квартиры, на наш взгляд, сугубо личное дело, не выходящее за границы замкнутого пространства, не претендующее на некую универсальность, так как при этом отсутствует понятие публичности, то есть наличие разных точек зрения. Другими словами, на интерьер личного пространства не распространяется главный принцип определения китча и, следовательно, проблема его эстетического потенциала из-за отсутствия компаративности. Она здесь достаточно условна.
Домашнее или личное пространство вообще противоречит эстетике большого стиля. Оно должно быть как можно более традиционно, исходя из общепринятых потребностей, где исключением становится лишь профессиональная направленность или разного рода увлечения. Однако в подобной вариативной традиционности как раз и проявляется китч путем творческой самореализации, хотя он не вызывает здесь столь критической оценки. В этом состоит аксиологический подход при характеристике китча в пространстве обыденной культуры .
Как подделка в контексте купли-продажи китч широко использует различный декор, компенсируя тем самым недостаток качества своей продукции . Существует мнение исследователей, в частности А.М.Яковлевой, о том, что беспредметное искусство в китч не превращается, так как не имеет вещности, натуральности, типичной для массового сознания. Только предметное искусство может быть китчем [13, 57 ]. Поэтому китч так широко проявил себя на уровне художественной вещи, в том числе бытовой.
Предметность, как его основополагающая нормативность, часто осуществляется в виде стилизации под старину, оставаясь верной эстетической системе китча. Подлинная старина, представленная в вышедших из употребления предметах жизненного обихода, обычно являет собой антиквариат или экспонаты для музея. Мода, например, заимствуя только элементы прошлого, никогда его полностью не повторяет, творчески перерабатывая, образует всегда нечто новое. Китч, копируя старые образцы, нередко использует принцип стилизации, соединяя экономические достижения настоящего и эстетические взгляды прошлых эпох. В таком случае возникает сопоставление несопоставимого, некое нагромождение предметов как плод «творческого воображения», способный эпатировать неискушенную публику. Используя в своих целях стилистические приемы различных направлений искусства: сентиментализма, романтизма, натурализма, социалистического реализма, китч, путем их фрагментарного смешения, порождает вкусовую эклектику, не поддающуюся никакой логике.
Типичной китчевой продукцией в современных интерьерах является, например, телефон, выполненный в старом стиле, муляжи книг, бытовые предметы с претензией на многофункциональность. В зарубежных журналах, посвященных этой теме, ярко иллюстрированы предметы китча: женские шляпы в форме туфли или корзины с цветами, шариковые ручки-куклы, обувь на «гигантской платформе» и т.п., то есть все, что может удивить, поразить воображение, поведать об отсутствии надлежащего эстетического вкуса, критерием которого являются понятия умеренности и гармонии. В подобных вещах китч без труда отличим своей несуразностью, вычурностью, претенциозностью, яркой нарочитостью, что наглядно демонстрирует его эстетическое своеобразие.
Говоря об эстетическом потенциале китча в пространстве обыденной культуры общества, следует выделить одну из его функциональных особенностей – способность компенсировать несовершенство бытового мира путем создания иллюзии «красивой жизни» через утверждение идей гедонизма. Иллюзорность изменения жизненных условий заключается в самом принципе китча, полагающем осуществление их в пассивной форме. Стремление человека массы вырваться из серых будней, обыденности находит свое спасение в принятии и следовании эстетике китча, игнорируя нормы «высокой» культуры. Однако обыденность часто преодолевается такими способами, которые в действительности не затрагивают все же ее сущности, ограничиваясь лишь миром мечты. Отрешенность от всего реального осуществляется путем обращения к далеким эпохам, экзотическим странам, воплощаясь во всевозможных сувенирах как знаковой их принадлежности.
Идея отвлечения от социальных проблем за счет шокирующей аттракционности, создание модели действительности для поддержки официозного социального оптимизма, как правило, также составляет основу эстетического потенциала китча в обыденной культуре. В его произведениях невозможно обнаружить изображения неприятных сторон жизни, но даже встречающаяся негативность часто пронизана ироничностью. Например, всевозможная атрибутика смерти преодолевается в китчевом наборе через утилитарно-прагматический аспект. Спокойная радость и душевный комфорт – вот основное credo китча в повседневности.
Художественность, обоснованная генезисом и развитием китча, может проявляться путем совокупности количественных показателей, вернее их излишества. Данное обстоятельство приобретает критическую оценку со стороны многих исследователей, поэтому-то в данном случае нам хотелось подчеркнуть чрезмерность как одну из определяющих его категорий. Ни для кого не секрет, что большое количество изделий, например, декоративно-прикладного искусства, в интерьере нарушает композиционную целостность бытового пространства с художественной точки зрения. Неслучайно излишество в любых его проявлениях, особенно предметах, не представляющих собой какой-либо ценности, всегда ассоциировалось с проявлением дурного вкуса, если последние относились к художественной сфере.
К чрезмерному украшательству мы можем также отнести, например, ношение в большом количестве драгоценностей: колец, брошей, серег и т.д. Речь здесь не идет о качестве этих изделий, настоящие они или бижутерия, что явилось бы, в соответствии с немецким «Schund», просто подделкой, обманом. Ношение множества колец может также рассматриваться как признак кичения богатством, хвастовства, бахвальства. Однако китч, определяемый нами как феномен художественный в обыденной культуре, проявляется в самой чрезмерности украшательства, то есть в демонстрации отсутствия вкуса. В этом состоит его основная сущность как показателя «художественного творчества» в декоре.
Аналогичным примером китча в этом направлении может служить и чрезмерная татуировка, обладатель которой не принадлежит к соответствующей субкультуре, несущей определенную семантику, на основании которой можно выявить зашифрованные данные о ее владельце, хотя нанесение рисунка на человеческое тело приобрело в последнее время вид художественного творчества. Сам факт отсутствия при этом меры позволяет рассматривать подобное излишество также в китчевом аспекте.
Если внешность рассматривается как область искусства, как показатель выражения художественного вкуса, то эстетический потенциал китча здесь вполне реален, особенно в наши дни существования массовой культуры, когда происходит тотальная нивелировка всего. Слепое следование моде без крити- ческой ее оценки часто служит причиной проявления китча во внешнем облике человека. В настоящее время одежда не только утратила присущую ей ранее функцию этноразделителя, но и свой показатель социального статуса, семейного положения и, нередко, даже половой принадлежности. Подобное определение может быть спорно в связи с тенденцией современного общества к простоте и естественности в выборе одежды.
Однако, несмотря на общепринятые существующие правила ношения одежды в соответствии с тем или иным этикетом, в нашем понимании китч, как показатель несформировавшегося вкуса, проявляется не столько в игнорировании данных норм, сколько в эклектичности элементов одежды (и в целом внешности), воспринимающихся в таком случае в художественном аспекте. Следствием того может быть несоблюдение ансамбля в одежде, экстравагантные прически, чрезмерное или неумелое использование макияжа, а также феминизация одежды, вкусов мужчин, инфантилизм молодежи. Как пример бытовой эстетики китча в 90-х годах прошлого века, символом «духовного равенства», вернее вкусовой уравниловки, был «набор преуспевания», состоящий из малинового пиджака, золотой цепи и «мобильника». Китч, таким образом, всячески стимулирует стремление потребителя к метаморфозам своего внешнего облика. Заметим, уже выбирая одежду и прическу, люди выступают участниками художественного процесса.
Романтизм и избыточная декоративность - таковы отличительные черты современной моды, когда одежда распадается на множество микростилей, образов и тем. Дизайнеры стремятся не к изяществу, гармонии и элегантности, а к декоративности и желанию поразить необычной идеей. В моде торжествует эклектика, приемы декорирования преувеличены в стиле китч, природа которого связана с повторением и переосмыслением уже сложившихся классических образцов. Грань между классикой и китчем почти совсем не видна ввиду использования самых дорогих материалов от признанных производителей, демонстрирующих достижения технического прогресса. Доминирующими цветами стиля «китч» стали яркие гаммы всевозможных оттенков , достигающих нередко «агрессивности» и «ядовитости» в своей экспрессии.
Исследуя специфику эстетического потенциала китча в обыденной культуре, автор пришел к выводу, что все аспекты художественного творчества в данной культуре являются основанием для ее объ-ективации. К ним следует отнести в первую очередь сферу досуга, а также сохранение сакраментальных элементов традиционной обрядности с позиции современности. Это может проявляться в так называемой эстетизации объективности, стремлении к «красивости» в художественном оформлении жизненного пространства, что достигается, как правило, чрезмерностью декора, несоблюдением каких-либо законов конструирования архитектоники бытового интерьера либо заведомой архаичностью обрядов и традиций.
Попытка следования во что бы то ни стало традициям, вопреки веяниям времени, вызывает неоднозначную реакцию в современном обществе, создавая условия для проявления китчевых манипуляций. Причина, как мы указывали выше, заключается в концентрации профанических смыслов, характерных для обыденной культуры, которые возникают в зависимости от общепринятой шкалы оценок и обосновывают ее утилитарно-прагматические функции. Художественное воплощение многих аспектов быта в большинстве случаев увеличивает потенциальные возможности китча в следовании его эстетическим нормам и принципам репродуцирования.
Кроме того, большое значение в данной культуре придается декору самого субъекта посредством стилизации одежды, украшений, татуировок, в чрезмерности и эклектичности которых также проявляется эстетический потенциал китча. Отсутствие художественного вкуса в эстетике внешности , меры декорирования ее элементов лишь усиливает китчевое позиционирование в данной области, возводя эстетизм китча в качестве примера для подражания.
Таким образом, можно заключить, что специфика эстетического потенциала китча в обыденной культуре общества проявляется в тех ее сферах, которые так или иначе связаны с художественным творчеством масс. Вместе с тем существующему в коммерческом пространстве спроса-предложения искусству китча, на наш взгляд, свойственен вообще некий оттенок дилетантизма, что более характерно для проявления креативности в так называемой околопрофессиональной среде. Однако китчевая репродуктивность здесь предполагает и определенный заказ в соответствии с эстетикой повседневности. Как бы то ни было, эстетический потенциал китча свидетельствует о рецептивной устойчивости этого феномена в обыденной культуре.