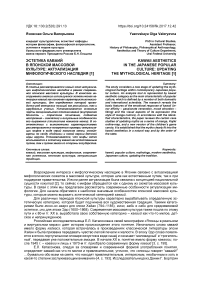Эстетика каваий в японской массовой культуре: актуализация мифологического наследия
Автор: Язовская Ольга Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новый этап актуализации мифологического наследия в рамках современной японской массовой культуры. В качестве инструмента анализа используется эстетическая категория каваий как основная характеристика массовой культуры, для определения которой приводится ряд авторских позиций как российских, так и зарубежных ученых. Устанавливаются основные черты эмоционального отклика каваий (внутренняя близость - страстное почитание, поднятие настроения - симпатия) и визуальные особенности его выражения (стилистика комиксов манги). В соответствии с выявленными характеристиками рассматриваются конкретные примеры актуализации мифов в виде серий комиксов манги, онлайн-карты по своду «Кодзики» и новой версии детской игры карута. Устанавливается, что мифы четко вписываются в эстетику каваий как естественным путем, так и путем заказа со стороны государства.
Каваий, массовая культура, мифология, современная эстетика, японская культура, актуализация традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/14941161
IDR: 14941161 | УДК: 18::130.2(520):291.13 | DOI: 10.24158/fik.2017.12.42
Текст научной статьи Эстетика каваий в японской массовой культуре: актуализация мифологического наследия
Возрождение интереса к мифологическому наследию в Японии связано с актуализацией мифологических сюжетов в массовой культуре, которая шла как естественным путем, так и при поддержке правительства. И если ранее актуализация была связана с концепцией национальной сущности кокутай [2], то сейчас к мифам обращаются как к одному из сюжетов массовой культуры. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть современные особенности актуализации мифологии. Для начала обратимся к наиболее значимым особенностям японской массовой культуры, которые можно выразить эстетической категорией каваий .
Для различных периодов японской культуры характерно вырабатывать определенную эстетическую категорию, которой будет подчинена вся художественная традиция. Такими категориями были моно-но аварэ для эпохи Хэйан (794-1185), югэн, ваби и саби для средневековой эстетики, ики для эпохи Эдо (1600–1868). Современная массовая культура также пошла по этому пути и к 80-м гг. ХХ в. выработала свою собственную категорию – каваий как что-то милое, детское и непринужденное.
Российская исследовательница Е.Л. Катасонова в своей монографии «Японцы в реальном и виртуальном мирах» дает историю происхождения этого понятия. Изначально слово каваий имело форму кайвасэ , которая встречалась в произведениях классической литературы эпохи Хэйан и была призвана передавать чувство легкой печали и жалости. В эпоху Эдо слово появляется в японо-португальском словаре иезуитов в виде cauaij и означает ‘миловидный’ и ‘трогательный’, передавая уже положительные эмоции. В начале ХХ в. понятие имело форму каваюси , после 1945 г. – каваюи и лишь к 1970-м гг. приобрело современную форму каваий [3, c. 195].
Е.Л. Катасонова, следуя за словарями и современной формой употребления понятия, определяет каваий как что-то милое и привлекательное, уточняя, что «японцы говорят “каваий!” …буквально обо всем на свете, что находят привлекательным, интересным, необычным и хоть в какой-то степени заслуживающим внимания» [4, c. 193]. Исследовательница из Дании Г. Борггрин обращается к категории каваий в контексте японского визуального искусства и отмечает, что ее стоит понимать как культурный стиль всего симпатичного, будь то комиксы манги, мультфильмы аниме, молодежная мода, компьютерные игры, дизайн и пр. [5, p. 41]. Японская исследовательница Юко Хасэгава, соглашаясь с этой устоявшейся концепцией, предлагает понимать каваий шире как нечто ценное: «что-то, к чему нас тянет и что побуждает желание защитить что-то чистое и невинное» [6, p. 128].
Другие японские исследователи Исихара Соитиро, Обата Кадзуюки и Канно Каёко также отмечают расширение границ каваий. Если изначально понятие ассоциировалось только с детством, то к концу ХХ – началу XXI в. его стали употреблять люди всех возрастов. Авторы считают, что, «произнося слово “каваий”, люди нередко выражают с его помощью одобрение или делают неосознанную попытку выглядеть моложе своих лет…» [7, c. 6]. Желание выглядеть моложе, раскованнее и чувствовать себя комфортно формирует потребность приобретать прелестные и милые вещи, что создает высокий спрос на эстетику каваий и делает ее по-настоящему массовой.
Также в своем обзоре мира каваий Исихара Соитиро, Обата Кадзуюки и Канно Каёко выстраивают систему координат типов и уровней каваий, куда могут быть помещены различные предметы и явления японской культуры. Система выстраивается по двум шкалам: по вертикали идет градация от чувства внутренней близости до страстного почитания, а по горизонтали – от поднятия настроения до симпатии в духе моэ (теплая симпатия). Большинство явлений, которые были внесены в эту систему координат, характерны сугубо для японской массовой культуры, но есть и зарубежные влияния. Скажем, Диснейленд и Микки Маус – явление далеко не японское, но оно имеет значимость в современной японской массовой культуре, поэтому вполне вписывается в рамки каваий и относится к чему-то, что поощряет страстное почитание и поднимает настроение. Дети и животные поднимают настроение и вызывают чувство внутренней близости, а фигурки аниме-персонажей вызывают симпатию [8, c. 8].
Таким образом, можно отметить, что каваий является не просто эстетической категорией, а определяющей чертой современной японской массовой культуры, имеющей под собой связь с предыдущей художественной традицией. Из этого следует, что, если какое-то явление будет стремиться вписаться в массовую культуру, ему придется обрести черты каваий: вызывать улыбку и симпатию, давать чувство внутренней близости и стремление к страстному почитанию.
Этим переживаниям способствуют визуальные образы, характерные для японской анимации и комиксов манги. Как отмечает Е.Л. Катасонова, «сегодня манга – это первооснова, своеобразная матрица практически всех видов современного искусства, включая анимацию, кино, музыку, компьютерные игры и т. п.» [9, c. 103]. Графическая стилистика, выработанная в рамках комиксов манги отличается условностью и простотой. Юки Магуро анализирует ряд средств художественной выразительности в манге и предлагает сводные таблицы различных планов и ракурсов, кадров, словесных пузырей и фонов, а также составляет графико-символический словарь манги, где представлены условные выражения глаз, рта, черт лица, жестов и положения тела, которые призваны передавать определенные эмоции. Так, например, сведенные кончики указательных пальцев обозначают нерешительность, а большие глаза выражают наивность и чистоту, свойственную юному возрасту [10]. Именно подобная условность манги, на наш взгляд, позволяет вложить свои представления в предлагаемый визуальный ряд и легко вписать в них свое желание переживать мир милого и очаровательного, что характерно для каваий.
Наиболее хрестоматийным образом каваий можно считать Хелло Китти, которую компания «Санрио» придумала еще в 1974 г. Этот игрушечный персонаж сразу же стал невероятно популярным, но через пару лет ажиотаж вокруг фигурок пошел на спад. В 1980 г. с образом Хелло Китти начала работать дизайнер Ямагути Юко. Она убрала черный контур вокруг фигурки и присоединила к ее образу плюшевого медведя. Затем последовали эксперименты с возрастом котенка – Китти стала старше и начала взрослеть вместе со своими поклонниками. Этот ход, как пишет То-рикай Синъити, и обеспечил Китти неугасающую популярность [11, c. 18]. Сама Ямагути Юко в интервью для журнала «Ниппония» очень тонко подмечает секрет популярности Китти. Самой выразительной частью лица является рот, а у Китти его нет, поэтому она может выражать любые эмоции, которые от нее ожидают: «Если вы опечалены, вам будет казаться, что она пытается поднять вам настроение. Если вы счастливы – и она будет радоваться вместе с Вами» [12].
Исходя из этого, отметим, что для эстетики каваий характерна условность манги, которая возведена в абсолют. Наиболее простые образы становятся популярны из-за их легкой подстройки под эмоциональное состояние человека. Все это приводит к постепенному подчинению массовой культуры Японии принципу каваий. А поскольку современная массовая культура тяготеет к тому, чтобы отобразить весь объем культурного наследия, то каваизации подвергаются и те явления, которые раньше таковыми не являлись. Это относится и к современной актуализации мифологического наследия.
К древней мифологии как к сюжету комиксов стали обращаться уже в 1980-е гг. Впервые мифологический свод «Кодзики» был представлен в форме манги еще в 1983 г. [13], а затем каждые 5 лет разные авторы издавали свои версии японских мифов. Настоящий бум на этот сюжет случился в 2012–2013 гг., когда в Японии отмечали 1300-летие свода «Кодзики» [14]. Адаптации в манге подвергается именно мифологическая часть свода. Чаще всего содержание свода передается целиком от сотворения мира до появления первого императора Дзимму, отдельно могут быть представлены сюжеты о его легендарном завоевании древней Японии. Японских богов изображают в образах людей, а их костюмы стилизованы под эпоху Асука (593–710). При этом сохраняется и характерная для манги условность – те же жесты и выражения лиц, что и в других сериях комиксов, которые в большей степени являются графическим кодом, чем реальными образами.
Еще одним примером массовизации с привлечением эстетики каваий может служить онлайн-карта мифов, где объекты мифологического прошлого соотнесены с современными туристическими местами Японии. Карта находится на информационном портале префектуры Нара, где в древности располагалась первая постоянная столица раннего японского государства. Онлайн-карта была сделана именно с целью популяризации древней истории и мифологии. Сами мифы представлены в виде десяти разделов, где кратко описан тот или иной сюжет в сопровождении иллюстрации в стиле манги и дан список мест с подробным маршрутом, которые с ним связаны [15]. Опять же персонажи мифов изображены условно и без привязки к реалистичности.
За счет эстетики каваий популяризация мифов идет и в рамках проекта NaraKikiManyo Project [16], инициированного руководством той же префектуры Нара. Проект призван вернуть интерес к древнему прошлому и мифологическому наследию в период юбилейных лет сводов «Кодзики» (712) и «Нихон сёки» (720). В рамках проекта ведется как научно-просветительская, так и развлекательная деятельность. Наиболее интересным примером привлечения эстетики каваий может служить детская игра карута, сделанная по мотивам японских мифологических сюжетов [17]. Игра сделана по принципу карт ироха карута, где 45 карточек представляют собой картинки с одним из знаков японской слоговой азбуки хирагана, а вторые 45 карточек – короткий текст, поясняющий иллюстрацию и начинающийся с того же знака хираганы, что и на парной карточке с картинкой. Иллюстрации к карточкам выполнены в стилистике манги, сюжеты мифов описаны в виде простых и понятных формул. А если карточки с картинками перевернуть рубашкой наверх, то можно сложить пазл, в который будут вписаны все значимые сюжеты мифа. Знакомый принцип игры и стилистика манги по шкале каваий вызывают чувство внутренней близости и поднимают настроение.
Представленные выше примеры адаптации японских мифов позволяют выявить следующие характерные черты функционирования мифологического прошлого в современной массовой культуре. Во-первых, массовизация проводится через комиксы манги как культурную матрицу, божества обретают антропоморфные черты и формируются их визуальные образы, что не было характерно для прошлой традиции. Во-вторых, образы божеств выполнены в условном упрощенном стиле и вписываются в эстетический канон, диктуемый категорией каваий. И в-третьих, если в 1980-е гг. к мифам обращались как к еще одному сюжету для манги, то в последние годы наблюдается повышенный интерес со стороны не только художников, но и муниципальных властей, которые используют принципы каваий как инструмент популяризации мифологического наследия.
Ссылки и примечания:
(дата обращения: 20.11.2017).
Список литературы Эстетика каваий в японской массовой культуре: актуализация мифологического наследия
- Язовская О.В. Политический миф о национальной сущности (на примере Императорской Японии конца XIX -середины ХХ в.)//Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2014. № 3 (131). С. 33-43.
- Катасонова Е.Л. Японцы в реальном и виртуальном мирах: очерки современной японской массовой культуры. М., 2012. 357 с.
- Borggreen G. Cute and Cool in Contemporary Japanese Visual Arts//Copenhagen Journal of Asian Studies. 2011. Vol. 29, no. 1. P. 39-60. http://dx.doi.o DOI: rg/10.22439/cjas.v29i1.4020
- Hasegawa Yuko. Post-identity Kawaii: Commerce, Gender and Contemporary Japanese Art//Consuming Bodies: Sex and Contemporary Japanese Art. L., 2002. P. 127-141.
- Исихара Соитиро, Обата Кадзуюки, Канно Каёко. Привлекательный мир «каваий»//Ниппония: журнал. 2007. № 40. С. 4-9.
- Магуро Ю. Анатомия манги//Манга в Японии и России. Субкультура отаку, история и анатомия японского комикса. М.; Екатеринбург, 2015. С. 297-334.
- Торикай Синьити. «Каваий» -лаборатория//Ниппония. 2007. № 40. С. 18-19.
- Akatsuka Fujio. Kojiki. Akatsuka fujio no manga koten nyūmo (1). Tokyo, 1983.
- Niwaneko Moru. Chōraku! Kojiki-koku umikara Nihon kenkoku made manga de yomu rekishi-sho (tankōbon komikkusu). Tokyo, 2012.
- Kōno Fumiyo. Booru-pen kojiki. Vol. 1-3. Tokyo, 2012-2013.
- Kondō Yōko. Koi suru kojiki . Tokyo, 2012.
- Kijiki yukari-hi mappu //Naraken: NaraKikiManyo Project. 2012. URL: http://www.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/yukaritimap/kojiki.html (дата обращения: 20.11.2017).
- NaraKikiManyo Project, 2012-2020 . URL: http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/(дата обращения: 21.11.2017).
- Kojiki karuta about . URL: http://www.tengudo.jp/kojiki/(дата обращения: 29.11.2017).