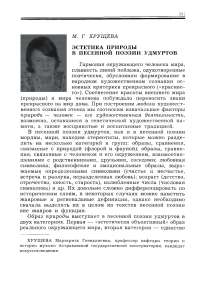Эстетика природы в песенной поэзии удмуртов
Автор: Хрущева Маргарита Геннадиевна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются скрытые, рассредоточенные в национальной поэзии идеальные эстетические образы и образцы поэтического песенного искусства удмуртского народа.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222409
IDR: 147222409
Текст научной статьи Эстетика природы в песенной поэзии удмуртов
Гармония окружающего человека мира, плавность линий пейзажа, одухотворенные поэтически, обусловили формирование в народном художественном сознании основных критериев прекрасного («красивого»). Соотнесение красоты внешнего мира
(природы) и мира человека побуждало переносить знаки прекрасного на мир дома. При построении модели художест венного сознания этноса мы соотносим изначальные факторы природа — человек — его художественная деятельность, возможно, оставшиеся в генетической художественной памяти, а также воспринятые и воспитанные традицией.
В песенной поэзии удмуртов, как и в песенной поэзии мордвы, мари, находим стереотипы, которые можно разделить на несколько категорий и групп: образы, сравнения, связанные с природой (флорой и фауной); образы, сравне ния, связанные с человеком и его окружением, взаимоотношениями с родственниками, друзьями, соседями; любовная символика; философские и эмоциональные образы, выражаемые определенными символами (счастье и несчастье, встреча и разлука, неразделенная любовь); возраст (детство, отрочество, юность, старость), излюбленные числа (числовая символика) и др. Их довольно сложно дифференцировать по историческим слоям, в некоторых случаях можно наметить жанровые и региональные дефиниции, однако необходимо сначала выделить их в целом из текстов песенной поэзии вне жанров и функции.
Образ природы выступает в песенной поэзии удмуртов в двух категориях. Первая — «эстетически объективный» образ реального окружающего мира, вторая категория — единство
ХРУЩЕВА Маргарита Геннадиевна, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории, кандидат искусствоведения.
природы и человека, его деятельности. В песенной поэзии содержится собирательная картина окружающего удмуртов мира, причем сочетаются и древние и более поздние образы окружающей природы. В природе все изначально красиво. В образе природы, растворенной в песенной поэзии, встречаем обе категории.
В песенной поэзии удмуртов не встречается описания неба, однако в легендах, мифах есть изначальный цвет неба при сотворении мира, когда были только небо, вода и солнце, хозяин неба Инмар, хозяин воды Вукузе1
Образ уральских таежных лесов явно идет от прапермской и даже от прафинно-угорской общности, когда праудмурты и их потомки жили на таежной хвойной территории, лес всегда густой, хвойный, высокий.
В песенной поэзии часто упоминаются животные. Это дикие животные, рыбы, промысловые пушные звери и птицы, характерные для хвойных, смешанных лесов; птицы связаны с лесами и водоемами Волго-Камья.
Если сопоставить образы природы в песенной поэзии родственных этносов — марийцев и мордвы (мокша и эрзя), а также чувашей, в этногенез которых влились финно-угорские племена, то оказывается, что картина природы несколько иная. «Пейзажные» образы минимальны у марийцев, достаточно скупы (по перечню) у мордвы. Они отражают суровую, но равнинную природу. Образ природы у мордвы более разнообразен и больше связан с горами. Необходимо отметить, что территория современного проживания мордвы горными ландшафтами не богата. Можно предположить, что образ «горы» — поэтическая историческая память о былой территории проживания. Однако с мифологической точки зрения «гора» — это образ «высшего мира», объекта поклонения.
В песенной (прежде всего обрядовой) поэзии удмуртов преимущественно главенствует образ густого, хвойного леса, у марийцев преобладают образы лиственных деревьев (береза, дуб, осина, клен, липа; также орешник и черемуха). Из хвойных деревьев фигурирует только елъ, а марийские леса — хвойные (прекрасные сосновые боры, сосново-еловые леса) и смешанные (сосны, ели, березы, осины, причем часто встречаются сосново-березовые). Перечень деревьев характерен для природы Среднего Поволжья и ближе к Верхней Волге.
В мордовских песенных текстах находим весьма малый перечень деревьев (береза, ель, сосна). И это при том, что у мордвы, как и у марийцев и удмуртов, издавна существует культ священных деревьев — покровителей рода (возможно, что у мордвы существовало своего рода «табу» на упоминание священных деревьев в бытовой песенной поэзии). В песенных текстах чувашей преобладают образы деревьев лиственных пород (береза, дуб, вяз, ива, ольха, клен, калина, можжевельник, орешник), из хвойных — только ель. Встречается также образ «дремучая чаща». В перечне лиственных деревьев преобладают деревья Среднего Поволжья, однако встречаются деревья, характерные для южной полосы (вяз, ива). Это совпадает в какой-то степени и с «пейзажными» образами (Среднее Поволжье и южные степи, где когда-то расселялись кыпчаки Нижнего Поволжья, через эти степи прошли и булгары). В татарской песенной поэзии упоминаются лиственные деревья (верба; береза; вяз).
Итак, «общими» деревьями в песенной поэзии удмуртов, марийцев, мордвы, чуваш, татар являются береза, ель; дуб, клен, орешник — у марийцев и чувашей; верба упоминается в песнях татар.
Примечательно, что по представлениям удмуртов, дерево не только имеет душу, но и «кровнородственно» взаимосвязано с человеком. А. Измайлова пишет: «Человек мог превратиться в дерево. Или, наоборот, дерево принимало человеческий облик. У древних удмуртов существовал обычай „оглавления” ели, согласно которому, перед уходом на службу в армию мужчина рубил сучья на верхушке выбранной им ели, „оформлял” голову, лицо, шею, придавая таким образом дереву сходство с самим собой. Если он умирал, высыхало и дерево, им оглавленное»2 Дерево в религиозной системе удмуртов, марийцев и мордвы было связано с определенным божеством.
Бережное отношение к природе характерно этике и эстетике удмуртов, оно регулировало обрядовое поведение и повседневный быт. Так, по свидетельству С. Н. Виноградова: «Были табу и по отношению к деревьям. В древности разрешалось использовать для своих нужд только валежник, бурелом. Впоследствии, когда приходилось спиливать живое дерево, совершался обряд: на пень спиленного дерева с молитвами клали различные продукты, прося прощения у души спиленного дерева»3 Из плодовых (ягодники, садовые растения) в песенной поэзии удмуртов наиболее распространены лесные ягоды (земляника/клубника, смородина). Также много образов связано с цветами, прежде всего луговыми, полевыми, и любимым цветком италмас, а также садовыми (шиповником, розой).
В текстах удмуртских песен (в метафорах и сравнениях) упоминаются звери (промысловые) и птицы лесов Волго-Камья (в обрядовых песнях — древние, охотничьи). У родственных этносов (марийцев, мордвы, соседствующих по территории — чувашей, татар) перечень птиц различается по составу. Совпадают по упоминаниям в песенной поэзии лесные птицы (кукушка, соловей) и домашние (курица, гусь). У марийцев и мордвы — иволга, голубок/ голубка, лебедь. Наибольшее разнообразие перечня птиц находим в чувашской песенной поэзии. Минимум лесных птиц — у марийцев. У чувашей не упоминаются лебедь (священная птица финно-угров, в том числе и удмуртов), утка, зато есть образ орла (распространенный в древних песенных текстах тюрков и ойрат-монголов). Симптоматично, что в песенной поэзии соседних и родственных удмуртам этносов образы животных встречаются не столь часто. Из лесных промысловых — лиса (у мордвы). У низовых чувашей из образов диких животных в текстах песен сборника М. Кондратьева обнаружено только три: олень, лев, заяц4 Из домашних животных только один общий образ — коня. У марийцев в песнях упоминаются также корова/телка, овца/ярочка.
Систематизация образов-символов песенной поэзии дает возможность реконструировать картину природы предков современных удмуртов: густые хвойные таежные леса с высокими старыми елями, высокими «корневыми» соснами; в лесах обитают промысловые пушные звери и птицы, издревле служившие товаром для торгового обмена. В заговорах и легендах упоминаются болота «на тысячу верст», что, возможно, относится к древней истории праудмуртов прапермской или прафинноугорской общности, вынужденным миграциям, связанным с вторжениями индоиранских или ираноязычных, угорских, тюрко-угорских, а затем тюркских племен. Более поздними наслоениями в образе природы являются лиственные или смешанные леса, а также одиноко стоящее дерево; птицы, характерные для смешанных и лиственных лесов; луга и луговые цветы, речки с местными названиями. Лесные ягоды также характерны для лиственных и смешанных лесов. Лесные цветы в песенной поэзии не упоминаются. Флора и фауна природы второго слоя образов в песенной поэзии типична для Волго-Камья и, вероятно, эти образы-символы сложились уже в период устойчивого обитания удмуртов на данной территории.
Вторая категория образов природы отражает мир человека: это дом, подворье, поле, луг, речка с ивами. У дома растут яблони, черемуха, шиповник-роза. Устойчивы образы поля: оно светится пшеницей с серебряным стеблем золотыми колосьями или с золотым стеблем, серебряными зернами. В песенных текстах упоминаются также пчелы, лошади, скот (без детализации).
Образы песенной поэзии корреспондируют с текстами удмуртских молитв/куриськонов, однако в них сложился особый поэтический круг, обращенный к божествам и покровителям рода. Доминируют в них образы, связанные с хлебом, скотом, охотой. В. Е. Владыкин считает, что в куриськонах (он называет их молитвами-заклинаниями) сконцентрирован идеальный образ благополучной жизни земледельца5
В песенной поэзии народов Волго-Камья видим разноэт-ничность, но в то же время и «переклички образов». Особо выделяется образ детства. Так, у марийцев детство ассоциируется с ядрышками ореха, у чувашей — белые цветочки земляники, но ореховые «ядрышки» — это родители, родня. У марийцев родители — яблоневый сад, яблоко, яблочки, так же как и у чувашей — яблоки, золотые яблочки. У чувашей родня также имеет образы кустов калины, кустов ивы. У марийцев образ родителей и образ отца — пчелиный улей, образ матери у марийцев и мордвы — пчелиная матка (отголоски древнего лесного бортничества). Также образ отца у марийцев — кукушка, мать — кукушка, крыло кукушки. У мордвы — вечерняя или утренняя заря.
У марийцев и чувашей дети, ребенок ассоциируются с «ядрышками ореха». У мордвы — только растительные образы: маковый цветочек, цветочек лазоревый, голубой, бело-розовый, красивый малиновый листочек, растущая березка. У чувашей образ ребенка ассоциируется также с черной ласточкой с раздвоенным хвостом. У татар сыночек — «медовенький». В отношении дочерей и сыновей больше образов отдано дочерям: дочка — соловушка, сизый голубок, белый лебедь (марийцы); боярышня, красивый малиновый листочек, уточки с гладкими головками, ласточки с красивыми голосами (мордва).
Отдельные образы родственников имеются лишь в песенной поэзии марийцев. Старший брат у марийцев: боярин, ласточка, соответственно — его жена (сноха) — боярыня, крыло ласточки. Младший брат и младшая сестра имеют «парный образ»: летняя бабочка, крыло бабочки; также младшие брат и сестра у марийцев — «маков цвет». У чувашей сестра имеет образ зайца.
У марийцев друг: цветок клубники, желтое яблочко, дубовая роща, жемчужина; подруга — цветок, цветок земляники, березовая роща. Любимая девушка — цветок. Девушка, девушки: у марийцев — мак на грядке, у мордвы — голубка, стая гусей, стая уток; боярышня.
В удмуртской песенной поэзии идеальным образом красоты становится не только природа, но и собирателъный образ девушки, девушки-невесты, причем ни в одном песенном тексте этот образ не дается в своем полном облике, он растворен во множестве песенных текстов и может быть лишь реконструирован.
Идеальный образ антропо-красоты девушки (невесты), создаваемый поэтическими средствами, связан с образами родной природы и скрыто — с древними культами деревьев, воды, птиц, животных, некоторых растений, часть которых имеет и воршудно-родовой смысл (выступая в качестве покровителя рода — воршуда), а также с обыденной жизнью в ее эстетическом переосмыслении. Интересно, что образ жениха явно проигрывает в яркости и разнообразии сравнений, метафор, в песенной поэзии он весьма блеклый. Жениха чаще всего сравнивают с ястребом, коршуном, одиноким журавлем (в паре с одинокой журавлихой — девушкой-невестой), с цветком италмас.
В песенной поэзии находим обобщенный образ девушки, включая и расцветку одежды. Сопоставляя цветовую гамму одежды по данным этнографов, обнаруживаются некоторые расхождения. Так, для одежды удмуртов XVIII — середины XX в. характерны следующие сочетания: северные удмурты — белый фон (выбеленный холст) и красный узор; южные удмурты — пестрядинная ткань с преобладанием красного и синего цветов. Варежки и чулки пестрые, фон белый, коричневый, узор — цветной.
Белый цвет одежд издревле считался ритуальным, а красный — оберегом и против сглаза. Эти цвета, по мнению К. М. Климова, связаны с культурой земледельцев и культами солнца, луны, огня6 В то же время удмуртской мифологии характерен «цветовой треугольник: белый — красный — черный, восходящий к общему финно-угорскому мироощущению, а точнее — к транснациональному цветовому архетипу»7 В вышивке удмуртов, в том числе и одежды, основной цвет красный, в сочетании с синим, голубым, светло-зеленым, желтым и черным.
При всем разноцветии преимущество имеют белый (фоновый) цвет, красный — узорчатый, а также синий/голубой, зеленый, желтый, т. е. основные цвета окружающей природы. Необходимо учитывать и то, что удмурты издревле использовали природные красители из трав, цветов, плодов и веток деревьев, кустарников, что давало мягкие, теплые тона, естественно сочетающиеся. При описании удмуртов Сарапульского уезда Г. Е. Верещагин замечает: «В одежде завьяловского вотяка замечается особенная пестрота; преобладающий цвет в ней синий, как и у русских... любимые цвета женщин — красный и малиновый, а также голубой»8.
Цветовой образ одежды девушки и девушки-невесты в песенной поэзии удмуртов отражает, вероятно, не только местные цветовые сочетания, но и некий колористический эстетический идеал с заложенной в нем символикой цвета, связанной не столько с одеждой, сколько с эмоционально-психологической сферой. Поэтому в цветовых образах песенной поэзии смыкаются эстетический идеал и эмоционально-психологическая символика. Каждый из цветов и оттенков в песенной поэзии удмуртов имеет свою образную шкалу: черный — опасный, потусторонний, водяной. Исключение — черная смородина (глаза девушки); белый — чистый, светлый, небесный, облака, снег, платок, цветы черемухи (весна, праздник); белая утренняя роса; родничок (белый = = чистый), лебедь (священная птица); синий — облака, цветы; голубой — глаза (красивые, счастливые) и т. д.
Заказ №6759
В заговорах Т. Г. Владыкина выделяет следующие образы: недоступный, оберегающий (железный, медный, серебряный, золотой, огненный); священный, оберегающий (белый, небесный); потусторонний, опасный (черный, водяной); обереги (рябина, проросшая сквозь муравейник от колдовства)9
В удмуртской календарной и свадебной песенной поэзии цветовые символы несут в себе эмоциональные знаки, есть также бытовые аналоги, связанные с природой. Другие песенные жанры (гостевые, лирические) экстраполируют эстетическое восприятие природы на отношения людей и их обыденную жизнь.
Особая роль принадлежит числовой символике. Она имеет магические функции (в заговорах, куриськонах), и некоторые конкретные (чаще всего обрядовые) реалии, трансформирующиеся в обобщенные числовые символы. Наиболее часто повторяются числа 3; 7; 12; 77 (причем возникают пары чисел 7—8 и 77—88), 1000 (множество). Встречаются также «множество», «неисчислимое». В текстах песен, заговоров, куриськонов наиболее типичны сочетания чисел в последовательности: 7—8; 9—3; 3—3—1000 и 1000; 12—30—1000; 30—12—1000; 77—88/88—77.
Числовая символика осталась в заговорах, молитвах-ку-риськонах, свадебных песнях и редко — в других песенных текстах, в основном календарных обрядовых песнях. В рекрутских, девичьих, лирических песнях числа упоминаются в связи с возрастом, другими бытовыми реалиями. Отметим, что в опубликованных песнях северных районов Удмуртии в текстах нет ни чисел, ни определений цвета, тогда как в песнях южных удмуртов они присутствуют достаточно часто.
Таким образом, в обрядовой песенной поэзии удмуртов сложилась исторически многослойная гармоничная система художественных образов природы и цветовой символики, обусловленная жизненной средой. Ранний слой образов-символов природы сформирован в периоды прафинно-угорской общности и праудмуртской культуры. В традиционной обрядовой песенной поэзии и доныне прослеживается дифференциация, отражающая этногенез и культурные контакты этнических групп удмуртов.
Список литературы Эстетика природы в песенной поэзии удмуртов
- Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / Литературная обработка Н. Кралиной. Устинов, 1986. С. 13.
- Измайлова А. С. Мифопоэтическая образность в лирике Флора Васильева. Образ мирового дерева // Вестн. Удмуртского университета. 1992. № 6. С. 59.
- Виноградов С. Н. Элементы традиционного мировоззрения удмуртов // Вестн. Удмуртского университета. 1992. № 6. С. 37.
- Песни низовых чувашей: Сб. песен: в 2-х кн. / Сост., предисл., коммент., указатели М. Г. Кондратьева. Чебоксары, 1981. Кн. 1. Чебоксары, 1982. Кн. 2.
- Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994. С. 298-299.
- Климов К. М. Удмуртское народное ткачество. Ижевск, 1979. С. 19.
- Лебедева Т. Н., Шибанов В. Л. Случайна ли смерть Лади? (Мифопоэтическое мышление М. Петрова в поэме «Италмас» // Вестн. Удмуртского университета. 1992. № 6. С. 55.
- Верещагин Г. Е. Вотяки Сосновского края // Записки Императорского общества по отделению этнографии. Т. XIV. Вып. 2. СПб., 1886. С. 51.
- Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор. Проблемы жанровой эволюции и систематизации. Ижевск, 1997. С. 82.