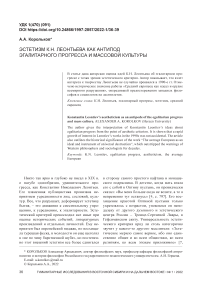Эстетизм К.Н. Леонтьева как антипод эгалитарного прогресса и массовой культуры
Автор: Корольков Александр Аркадьевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Константин Леонтьев: Цветущая сложность. К 190-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дана авторская оценка идей К.Н. Леонтьева об эгалитарном прогрессе с точки зрения эстетического критерия. Автор показывает, что взлет интереса к творчеству Леонтьева не случайно проявился в 1990-е гг. Отмечено историческое значение работы «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», опередившей предостережения западных философов и социологов на десятилетия.
К.н. леонтьев, эгалитарный прогресс, эстетизм, средний европеец
Короткий адрес: https://sciup.org/170194584
IDR: 170194584 | УДК: 1(470) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/36-39
Текст научной статьи Эстетизм К.Н. Леонтьева как антипод эгалитарного прогресса и массовой культуры
Никто так ярко и глубоко не писал в ХІХ в. о пагубе однообразия, уравнительного прогресса, как Константин Николаевич Леонтьев. Его пламенная публицистика пронизана неприятием усредненности лиц, сословий, культур. Все, что разрушает, деформирует эстетику бытия, – это движение к смесительному упрощению, к усреднению, к эгалитарности. Эстетический критерий превосходил все иные при оценке исторических событий, литературных произведений и отдельных личностей. Ему неприятен был европейский пиджак, но восхищала турецкая феска, в молодости он еще щеголял в «не по чину барственной шубе», но постепенно этот внешний эстетизм все более сдвигался в сторону самого простого кафтана и монашеского подрясника. В детстве, когда мать взяла его с собой в Оптину пустынь, он провидчески сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь» [4, с. 797]. Его восхищение красотой Оптиной пустыни только укреплялось с возрастом, упокоился он неподалеку от другого духовного и эстетического центра России – Троице-Сергиевой Лавры, в Гефсиманском скиту. Универсальность эстетического критерия вряд ли столь категорично звучит у какого-то другого мыслителя: «Эстетическое мерило самое верное, ибо оно единственно общее и ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем эпохам приложимое» [7, с. 217]. Это вовсе не означает отрицания нравственности в угоду эстетизму. Ему чуждо морализаторство, но не нравственность с ее нацеленностью на совершенство. Если бы это было не так, то не стремился бы он к монашеству и не пришел бы к нему, ведь и похоронен он был как монах Климент. Насколько высоким считал он монашеское служение и насколько труден для него был этот выбор после многих лет дипломатической службы и языческих зигзагов молодости – почти автобиографически описал он в небольшой книге «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни», книге о друге и духовном наставнике, не дожившем до пятидесяти. «Страшно за себя, страшно за близких, особенно страшно за Родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких людей и как рано они умирают, не свершив и половины возможного» [5, с. 351]. Преодоление бурной эмоциональности, впечатлительности, «тревожности в сношениях с людьми» роднило Леонтьева с о. Климентом Зедергольмом. Эти качества позволяли Леонтьеву писать не только остро полемические статьи, но и прозу, обращенную к сокровенным движениям человеческих душ.
К.Н. Леонтьев всматривался не только в исторические коллизии, он многое сказал о себе, о противоречиях становления собственного мировоззрения, которое биографы назовут консерватизмом. Он откровенно писал, что в 20–25 лет не понимал еще разницы между прогрессом образованности, науки и прогрессом свободы, которая увлекала призраком равенства. Его на время очаровала даже романтика революций, не бунты и кровь, а эстетика революций со сражениями и баррикадами. Нелегко было противостоять веяниям современности, критицизму Гоголя, который не стал еще поздним Гоголем с его духовными исканиями. И все же он нашел в себе силы противостоять идеям, захватившим образованные слои и Европы, и России. Признавался позднее, что его спасла эстетика жизни. «Я идеями не шутил и не легко мне было “сжигать то”, чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели… Но я хотел сжечь и сжег! Догорела последняя тряпка гоголевских обносков» [2, с. 298].
Леонтьев знал о разнообразии человеческих талантов, умел ценить таланты писателя, старца и ремесленника, напоминал о словах апостола Павла о том, что каждый должен оставаться в том звании, к коему призван. Сам Леонтьев был призван ко многому – реализовал себя он и как врач, и как дипломат, и как философ, и как молитвенник, и как повествователь.
К.Н. Леонтьев – из тех редких мыслителей, у которых теоретические размышления совпадали с их жизнью. Он не просто отказался от карьеры успешного дипломата, имперского служащего, но стал неузнаваемым даже внешне: это видно на сохранившихся фотографиях – в молодости красавец – аристократ в шубе с роскошным воротником, а в зрелом возрасте – в скромном, почти крестьянском кафтане. Внешнее и внутреннее в человеке для него неразделимы: «Изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе» [8, с. 130]. Стремление людей, особенно молодых, «стать такими, как все», рождало в Леонтьеве не тревогу даже, а ужас неотвратимой беды для цивилизованного человечества, которое тем самым «устремится в какую-то темную бездну будущего, бездну незримую еще» [4, с. 267]. Незримую для современников Леонтьева, вовлеченных в этот поток, несущийся с убыстряющейся скоростью, но зримую для его эстетического чувства. Наши идеалы обнаруживаются даже в одежде – об этом он настойчиво писал в серии философско-публицистических работ, подчеркивая, что все это –проявления и оттенки эстетики живой, а не музейной: «...Все эти внешние формы, говорю я, вовсе не причуда, не вздор, не чисто “внешние вещи”, как говорят глупцы; нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире, – это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть» [7, с. 232].
Не было в ХІХ в. более последовательного и дальновидного критика либерализма, чем К.Н. Леонтьев. Он сумел в зародыше увидеть и даже классифицировать виды либерализма. Наибольшие вред и опасность он связывал не с влиянием на Россию западных либеральных идей, а с неспособностью отечественной интеллигенции отказаться от увлечений, подтачивающих крепость государства. «Эти полунигилисты, нигилисты тайные вреднее не только воюющих с нами иноплеменников, но даже и отъявленных крамольников, ибо эти последние идут на открытую борьбу и тем самым облегчают отпор, который дают им власти. Но куда как зловреднее нигилизм умеренный, однако лукавый, дышащий безопасно под мундиром чиновника, на профессорской кафедре и особенно в очень умных и хитрых статьях либеральных газет» [6, с. 103–104]. Именно они разжигали костер радикализма Веры Засулич и вели к социальным катастрофам.
А стремление к свободе часто отождествляется (и об этом писал Леонтьев) с отрицанием всяких авторитетов. Вот строки из «Записок старого петербуржца», родившегося в 1900 г., но отражающих либеральные умонастроения общества, двигавшегося к революциям. Когда автору записок было около пяти лет, он услышал от матери запомнившийся на всю жизнь рассказ: «Россией правит злой царь, его зовут царем-вампиром. С ним борются многие хорошие люди. Он хватает их своими когтями и бросает в каменные мешки, в тюрьмы. В тюрьмах сидят очень честные и очень добрые люди. Когда-нибудь они победят вампира» [10, с. 34]. Против подобного образа мыслей активно выступал Леонтьев, он надеялся, что конец века девятнадцатого отвернется от нигилизма, в письме 1889 г. писал: «40-е годы хороши только со стороны эстетических взглядов. Все остальное в их духе прескверно! В религии – полное отчуждение от Церкви; в политике – либерализм; в личной жизни – ни к чему не ведущее, вечное недовольство собой, ничего общего с христианским “смирением” не имеющее» [9, с. 40]. Он вынужден был констатировать, что происходит сдвиг в трактовке любви: любовь и вера в человека ослабевают, все больше начинают верить в абстрактное человечество, лишь немногие, как Ф.М. Достоевский, не утрачивают веру в самого человека.
Леонтьев не надеялся, что его голос, его предостережения будут услышаны современниками, которые все более верили в прогресс, во всесилие техники, которая сама решит человеческие проблемы, приведет к благоденствию. Его не слышала Европа, хотя он пытался достучаться до их сердец на десятилетия раньше, чем, допустим, О. Шпенглер, он даже напрямую предрекал закат Запада как своеобычной цивилизации и культуры. И уж совсем вопреки всеобщей эйфории от достижений науки и техники К.Н. Леонтьев выступал «против злоупотреблений машинами, и противу разных прикладных изобретений, “балующихся”, так сказать, весьма опасно со страшными и таинственными силами природы» [7, с. 167]. ХХ и ХХІ вв. подошли к предельной черте «игры» с силами природы: уже и разнести в клочья земной шар позволяют запасы оружия, и вызвать массовые болезни стало по силам науке, близко подошли к искусственным климатическим катаклизмам, ко многому, что засекречено в лабораториях, в конструкторских бюро, на испытательных полигонах.
Если бы К.Н. Леонтьев не написал ничего, кроме работы с афористически звучащим названием «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», он бы вписал свое имя в вершинные достижения философской и социологической мысли не только своего века, но и последующих веков, когда усреднение, унификация жизни, утрата своеобразия национальных культур становились все более очевидными.
Интерес к творчеству К.Н. Леонтьева вспыхнул на закате советского периода нашей истории. В 1991 г. автору этих строк удалось без каких-либо цензурных поправок издать книгу «Пророчества Константина Леонтьева» [1]. В 1994 г. она была переведена на польский язык и обсуждалась в Университете имени Коперника в городе Торунь. Уже в январе 1991 г. в Калуге собрали конференцию, посвященную самому противоречивому земляку – приурочена она была к столетию земной кончины мыслителя. Удивительным оказалось то, что конференцию организовал Калужский обком Коммунистической партии, хотя и знали организаторы, что Леонтьев считал коммунизм формой смесительного упрощения и новой формой рабства. Он сознавал, что как идеал земной справедливости, благоденствия коммунизм не утрачивает своей привлекательности, но ставил диагноз как практикующий врач, каковым он и был по своему образованию. Характерно, что стремление к всеобщим справедливости и равенству он критически оценивал не только эстетически, но и нравственно. Нравственность он связывал с трудностями, испытаниями, «ибо высшая нравственность познается только в лишениях… Лишая человека возможности высокой личной нравственной борьбы – вы лишаете все человечество морали, лишаете его нравственного элемента жизни. Высшая степень общественного благоденствия материального и высшая степень общей политической справедливости была бы высшая степень без-нрав-ственности» [7, с. 222–223]. Причем, Леонтьев отметил, что подчеркнуто нарушил написание слова «без-нравственности» разделением через дефис, чтобы придать слову крайнюю степень отказа от нравственности.
Список литературы Эстетизм К.Н. Леонтьева как антипод эгалитарного прогресса и массовой культуры
- Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: СПбГУ, 1991.
- Леонтьев К.Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 297-315.
- Леонтьев К.Н. Как надо понимать сближение с народом? // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 156-179.
- Леонтьев К.Н. Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 782-804.
- Леонтьев К.Н. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 253-351.
- Леонтьев К.Н. Передовые статьи "Варшавского Дневника" (Публицистика 1880 года) // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 7-107.
- Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 100-233.
- Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 118-143.
- Письма К. Леонтьева Н. Уманову (18881889) // Самопознание. 2015. № 3. С. 35-41.
- Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. Л.: Лира, 1990.