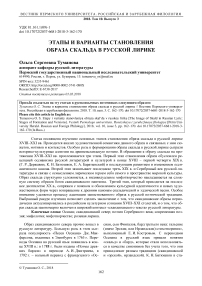Этапы и варианты становления образа скальда в русской лирике
Автор: Туманова Ольга Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению основных этапов становления образа скальда в русской лирике XVIII-XXI вв. Проводится анализ художественной семантики данного образа и связанных с ним сюжетов, мотивов и контекстов. Особую роль в формировании образа скальда в русской лирике сыграли историко-культурные аллюзии на древнеисландскую поэзию. В обращении к образу скальда на протяжении XVIII-XXI вв. прослеживается три этапа. Первый этап становления образа обусловлен рецепцией оссианизма русской литературой и культурой в конце XVIII - первой четверти XIX в. (Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский) и последующим развитием и изменением осси-анического канона. Второй этап захватывает последнюю треть XIX в. и Серебряный век русской литературы и связан с осмыслением лирическим героем себя самого в пространстве мировой культуры. Образ скальда структурно усложняется, а индивидуальное мифотворчество накладывается на сложную систему образов богов скандинавского пантеона. Третий этап, который приходится на последнее десятилетие ХХ в., сопряжен с поиском и обновлением культурной идентичности и новых художественных форм через возвращение к древним канонам скальдической и эддической песни. Особое внимание уделяется процессу адаптации заимствованного образа к русской поэтической традиции. Выбранный ракурс изучения позволяет сделать заключение о том, что скандинавские образы периодически актуализировались в российском культурном сознании XVIII-XXI столетий, и о том, что образ скальда закономерно включен в широкий контекст «скандинавского текста» русской литературы.
Оссиан, скандинавский север, поэзия серебряного века, современная поэзия, мифология, мифотворчество, ролевая лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/147226916
IDR: 147226916 | УДК: 81.161.1(09)-1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-162-170
Текст научной статьи Этапы и варианты становления образа скальда в русской лирике
тье «Нечто о поэте и поэзии» (1816) не проводит четкой границы между «бардом» и «скальдом»: «Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах» [Батюшков 1989: 44]. А. С. Пушкин в замечаниях на «Опыты в стихах и прозе» (1830) Батюшкова прямо заявляет: «Скальд и бард – одно и то же, по крайней мере, для нашего воображения» [Пушкин 1937: 285].
Ф. И. Буслаев в статье «Древнесеверная жизнь» (1856), которая является отзывом на одноименную книгу Карла Вейнгольда, отдельно говорит о поэзии скальдов и значительной роли «северных поэтов» в общественной жизни древней Скандинавии [Буслаев 1990: 122]. Через размышления Ф.И. Буслаева проходит мысль о необыкновенном родстве русской и скандинавской культур. Скандинавия в видении Ф.И. Буслаева – образ, связанный с русской культурой, а не с определенными точками на карте, абстрактный «север», связанный с идеями общины и гармоничного сосуществования поэта и государства: «Северные властители уважали скальдов, произведения которых были лучшим украшением их двора» [там же: 123].
Изучение «русификации» оссианических образов в русском литературоведении вновь стало актуальным в конце ХХ столетия. Ю.Э. Левин говорил о недостаточной изученности русского оссианизма – явления, весьма существенного для истории русской литературы на рубеже XVIII и XIX вв. Исследователь отмечал важный факт слияния оссианизма и скандинавизма в европейских литературах [Левин 1980: 97]. Смешению «оссианического, скандинавского и древнерусского колорита» в литературе рубежа XVIII– XIX вв. и самому феномену «северного стиля» посвящена статья Т. В. Федосеевой [Федосеева 2008]. Оссианические и скандинавские мотивы в поэме повлиявшего на А. С. Пушкина Эвариста Парни «Иснель и Аслега» анализирует З. Ф. Ка-баченко [Кабаченко 2009: 190]. Д. В. Абашева отмечает контаминацию образов Барда и Бояна в лирике Н. Языкова [Абашева 2014]. «Северному тексту» современной контркультурной лирики посвящено исследование О. А. Маркеловой [Маркелова 2014]. М. Ю. Елепова [Елепова 2017] анализирует обширную рецепцию оссианизма русской поэзией первой трети XIX в., исследуя синкретичное пространство Севера, представленного Ирландией, Финляндией и Скандинавией. М. Ю. Елепова особенно подчеркивает кон- таминацию кельтской древности и картин жизни древних скандинавов. На наш взгляд, наличие подобных исследований говорит о новом этапе жизни рассматриваемой нами литературной традиции. Однако несмотря на существование работ, посвященных «северному тексту», важнейший для понимания русского оссианизма и скандинавского текста русской культуры образ скальда никем из исследователей специально не рассматривался.
Целью нашей статьи является диахроническое изучение образа скальда – одного из наиболее интересных образов-репрезентантов Скандинавии в русской лирике. Скальд – поэт и исполнитель произведений, которые он сам создает или же воспроизводит. Этот образ часто встречается как в поэтическом сборнике древнеисландских песен о богах и героях «Старшая Эдда», так и непосредственно в скальдической поэзии (последняя в меньшей степени близка к фольклору и обладает лаконичным содержанием при нарочитой сложности формы). Скальд – это «переводчик» окружающей его жизни на язык разветвленных метафор, «в метафоры оказываются претворены его враги и друзья, его возлюбленная, его оружие, родня, северная природа с ее березами и темноле-сьем, и прежде всего море, для описания которого скальд обладал большим запасом сравнений и образов-загадок» [Самарин 1984: 487]. Впрочем, не стоит забывать исторически достоверный факт: скальд – еще и человек, тесно связанный с жизнью скандинавской общины. Он нередко – богатый землевладелец, викинг, служилый человек в дружине знатного скандинава [там же].
О художественной функции образа скальда в исландских сагах размышлял Ф. И. Буслаев в статье «Древнесеверная жизнь». М. И. Стеблин-Каменский в ряде работ, посвященных языку, литературе и культуре Древней Скандинавии («Мир саги», 1984; «Культура Исландии», 1967; «Скальдическая поэзия», 1979 и др.), акцентирует внимание на исторически сложившихся канонах создания образа скальда: в песнях «Старшей Эдды» искусство скальда является дополнением к образу героя-воина; «быть скальдом значило обладать свойством, которое может так же характеризовать человека, как его рост, цвет волос и т. д.» [Стеблин-Каменский 1979: 16]. О. Е. Смирницкая работала над изучением художественной формы скальдической поэзии и творческой индивидуальности автора, при этом исследовательница не оставляет без внимания и изучение истории диалога русской и скандинавской культур [Смир-ницкая 2005]. А. Я. Гуревич делает важное замечание, которое вполне объясняет, почему фигура скальда оказалась столь востребована русской лирикой: «Скальд, кроме всего прочего, умудрен знанием рун: в пору расцвета поэзии скальдов в странах Скандинавии другое письмо было либо неизвестно, либо известно лишь немногим. Скальд владеет тайной силой слова, он может творить волшбу или снимать вражьи чары» [Гуревич 1979: 50]. В этих словах можно усмотреть присущее творческому сознанию убеждение в избранности и особой миссии поэта. Е. А. Гуревич отмечает, что скальдическое мастерство высоко ценилось, «ведь прославляя подвиги конунгов, скальды увековечивали их деяния в людской памяти» [Гуревич 2016: 342].
Мотив противостояния вечности посредством творчества является ключевым для раскрытия темы поэта и поэзии, важной для русской литературы. Это во многом объясняет актуальность образа. Скальд принадлежит земному миру и олицетворяет собой земную жизнь, живые человеческие чувства и беззащитность, зависимость человека от высшей воли. Сущность скальда амбивалентна: он может быть и воином (разрушителем), и поэтом (создателем и созидателем). В этих двух ипостасях он становится соприча-стен божественному миру Вальхаллы: известно, что верховный бог скандинавского пантеона Один – покровитель и войны, и поэзии. Синкретичная фигура поэта-воина очень удачно коррелировала с системой ценностей русской романтической поэзии и представлением о социальной активности художника.
Популярность лирического героя-скальда (и по совместительству воина) в европейской культуре носит объяснимый характер. Немецкий исследователь Рудольф Зимек в статье «Викинги: Миф и эпоха. Средневековая концепция эпохи викингов» рассматривает феномен мифологизации исторически негативного образа викинга: «Переход от крайне негативного (и с точки зрения жертв викингов, по-видимому, вполне реалистичного) представления о викингах как о пиратах, варварах, грабителях, убийцах и поджигателях, отраженного в англо-саксонских и франкских хрониках и анналах, к распространенному в XVIII и XIX вв. образу благородного воина и бесстрашного первооткрывателя и поселенца» [Зимек 1999]. Зимек видит источники мифологизации образа в «книгах и экспозициях, которые, как правило, представляют викингов в качестве носителей развитой культуры раннесредневековой Скандинавии» [там же]. Исследователь также полагает, что в настоящее время эпоха викингов играет все более существенную роль как средство самоидентификации [там же].
Действительно, по сей день существует большое количество почитателей норманнской теории происхождения древнерусского государства; многие русские люди, увлекающиеся культурой Скандинавии, считают свое увлечение «неслучайным», а Скандинавию воспринимают как прародину, как «потерянный рай». Сегодня к наиболее ярким формам подобного самоотож-дествления с эпохой викингов относится быстрый численный рост всевозможных викингских фестивалей (традиционно проводимых в окрестностях Санкт-Петербурга), реконструкций боев и ярмарок, устраиваемых ежегодно. Носитель ролевой культуры, сочиняющий стихи, песни или мифологическую прозу, вне зависимости от гендерной самоидентификации мыслит себя воином-скальдом [Бреева 2012].
Рассмотрев историю изменений образа скальда и его места в культуре, мы можем выделить три этапа его становления. Первый этап становления образа приходится на первую четверть XIX в. и связан с рецепцией оссианизма. Примеры обращений к Оссиану можно найти в лирике Г. Р. Державина. Державин переводил Оссиана (так, в 1794 г. им была переведена поэма «Карик-тура»), а также использовал в своем творчестве образность его поэм. Ю. Д. Левин отмечает влияние Оссиана в одах «На взятие Варшавы», «На взятие Измаила», «На победу в Италии», «На переход Альпийских гор», стихотворении «На кончину Ольги Павловны», но более всего – в оде «Водопад» [Левин 1980: 509–511]. Нам представляется весьма показательным стихотворение «Жилище богини Фригги» (1812), сюжет которого посвящен становлению поэта-скальда. Стихотворение построено в форме оратории, в нем расписаны партитуры для хора и певца. Хор прославляет богов, любящих добродетель, в то время как певец рассказывает историю перерождения человека в поэта и собеседника богов-асов, причем перерождение происходит при помощи бога Браге («Брагге») – древнескандинавского покровителя красноречия и мудрости, и Фригг («Фригга») – «скандинавской богини премудрости, царицы неба и матери всех богов» [Державин 1864: 113]. Несмотря на неоспоримое влияние оссианизма на образность данного стихотворения, ясно видна и другая тенденция – попытка индивидуального мифотворчества в отношении пантеона скандинавских богов.
Образ скальда, появляющийся в лирике К. Н. Батюшкова, хотя и соответствует эддиче-скому первоисточнику, уже несет в себе черты индивидуального поэтического мифотворчества. Скальд из одноименного стихотворения, напи- санного между 1809 и 1811 гг., – двоящийся образ, балансирующий на границе героического прошлого и несформированного настоящего. Лирический герой воспринимается окружением как «свидетель древних лет», однако сам он осознает собственное бессилие в современном ему мире: «Ах, мне ли петь? Мой глас исчез, / Как бури усыпленный ропот...» [Батюшков 1964: 48]. Прошлое для лирического героя живее настоящего, поскольку сам он является его хранителем: «Но славны подвиги отцов / Живут в моем воспоминанье». Скальд обеспечивает и трансмиссию исторической памяти («А вы, о юноши-герои, / Внемлите повести моей»), а его песни «спасут от алчной Гелы» – тема творчества противопоставлена минорным темам забвения и смерти. В тексте в виде парентезы упоминается имя Эгиля (у Батюшкова транслитерированное в «Егила») – легендарного скальда IX–X вв., героя исландской «Саги об Эгиле». Тлену препятствует созидание, алчной богине нижнего мира Геле (Хель) противостоит поэт.
В другом стихотворении К. Н. Батюшкова, «Мечта» (1806), Скальд (в данном случае это имя собственное) является певцом в Вальхалле, т. е. полноправным обитателем Асгарда, собеседником богов: «Там снова с арфой золотою / В восторге Скальд поет / О славе древних лет...» [Батюшков 1977: 253]. Миссия скальда – сплетать мечту: «Завидное Поэтов свойство: / Блаженство находить в убожестве Мечтой!». Отчетливо видна параллель между лирическим героем-поэтом и древним скальдом: оба счастливы, погружаясь в «сладки думы», поэтические грезы, которые позволяют игнорировать убогую и безрадостную действительность. В стихотворении «На развалинах замка в Швеции» (1814) развивается тенденция ассоциативного приобщения образа Скальда к высшему миру: Скальд появляется в окружении скандинавских мифонимов (Оден, Гела, Валкала), ему сопутствуют косвенные указания на символы Вальхаллы («Валкалы»): «Уж Скальды пиршество готовят на холмах, / Уж дубы в пламени, в сосудах мед сверкает» [там же: 202]. Пир и мед символизируют Вальхаллу, палаты Одина, куда приходят после смерти павшие герои и проводят дни в нескончаемом бое и пиршестве; дуб может быть ложной ассоциацией с Иггдрасилем, мировым древом, которое было ясенем. И здесь также повторяется оппозиция прошлого и настоящего: если в прошлом «Скальды пели брань, и персты их летали / По пламенным струнам», «Скальд гремел на арфе золотой», то в настоящем «ветер свищет лишь уныло». Несмотря на это, стихотворение завер- шается сценой передачи исторической памяти: старик показывает путешественнику руины и просит помнить былое: «Смотри, о, сын иноплеменный. / Здесь тлеют праотцев останки драгоценны: / Почти их гроб святой!» [там же]. Герой стихотворения, «странник», читает «руны тайные», что, возможно, является знаком его преемственности относительно древних героев. Прошлое оказывается органично включенным в настоящее, запечатленным в нем, и этому, по К.Н. Батюшкову, во многом способствует древнее искусство поэзии.
Созвучные упомянутым стихотворениям К.Н. Батюшкова идеи мы найдем в стихотворении Е.А. Баратынского «Финляндия» (1820): «Умолк призывный щит, не слышен Скальда глас, / Воспламененный дуб угас…» [Баратынский 1987: 28]. Взору лирического героя, забывшего свое прошлое, также предстают пустынные пейзажи севера. Но поэтическое зрение позволяет преодолеть время, превозмочь «один закон, закон уничтоженья»: прошлое живо для лирического героя («Во всем мне слышится таинственный привет / Обетованного забвенья!») [там же: 29]. Лирический герой, прикасаясь к героическому прошлому, становится наследником поэтов севера.
Начало второго этапа становления образа скальда приходится на 1870–1880 гг. XIX в. – период смены господствующей поэтической проблематики и возникновения других типов образов. Можно было бы сказать, что в этот временной отрезок образ скальда уходит на периферию литературного процесса. Исключением оказываются «скандинавские поэмы» А.Н. Майкова, «Бальдур, или Песнь о солнце, по сказаниям Скандинавской Эдды» (1870) и «Брингильда» (1888). Упомянутые произведения вследствие своей сложности и самобытности заслуживают, на наш взгляд, отдельного исследования. А. Г. Гидони объясняет факт обращения А. Н. Майкова к «скандинавской теме» не «маскарадом» или спонтанным творческим порывом, а непосредственными впечатлениями поэта от контактов со шведами и норвежцами во время его посещения Норвегии и города Арендал в частности [Гидони 1972: 117]. Таким образом, скандинавский диптих Майкова, с одной стороны, может считаться своеобразным вариантом поэтического травелога, с другой стороны, является уникальной и не имеющей аналогов комбинацией сразу нескольких песен «Старшей Эдды» о богах и героях: «Прорицание вёльвы», «Речи Гримнира», «Перебранка Локи», «Речи Сигрдри-вы» и «Песнь о Сигруде». Образ скальда в поэме
«Бальдур» организует рекурсивную композицию поэмы: скальд рассказывает конунгу, потерявшему сына, историю об Одине, который так же теряет сына Бальдра. Образ скальда в этом стихотворении создается по древнескандинавскому канону, изображающему поэта как медиатора между мирами, вовремя открывающего смертным общность их судеб с богами-асами.
Второй этап становления образа скальда продолжится в поэзии Серебряного века, которая унаследовала и развила контаминацию скандинавизма и оссианизма. О. Э. Мандельштам в стихотворении «Я не слыхал рассказов Оссиана…» манифестирует практически идентичную К. Н. Батюшкову идею: «И снова скальд чужую песню сложит / И, как свою, ее произнесет» [Мандельштам 1990: 63] . Н.В. Барковская приходит к выводу, что «реминисценции из Оссиана выполняют роль аллюзий на русскую романтическую поэзию» [Барковская 1999: 147]. Лирический герой ощущает себя наследником поэтического прошлого (« Я получил блаженное наследство...»), которому суждено ожить в грядущем, минуя безликое настоящее («И не одно сокровище, быть может, / Минуя внуков, к правнукам уйдет») [там же].
Наиболее популярным в лирике ХХ в. оказался сюжет «любовь смертного героя (воина-скальда) и валькирии», заимствованный непосредственно из «Старшей Эдды» (например, в «Песне о Хельги» валькирия, покровительствующая герою, является его возлюбленной). Этот миф в Серебряном веке актуализирует Н. С. Гумилев в стихотворении «Ольга» (1920). Стихотворение, посвященное княгине Ольге, легко прочитывается сквозь призму конкретных жизненных реалий (истории любви поэта к Ольге Арбениной). Примечательно, что лирический герой позиционирует себя как «древних ратей воин отсталый», таящий вражду к « этой [современной] жизни ». Стихотворение пронизывает мотив ожидания: с одной стороны, в тексте воплощен своего рода «вызов» возлюбленной -ожидание ответной любви, с другой стороны -это и ожидание другого порядка, ожидание вторжения инобытия в «эту жизнь», заурядную и не устраивающую героя, словно рожденного в иное время: «Сумасшедших сводов Валгаллы, / Славных битв и пиров я жду» . Возлюбленной в этом инобытии также уготовано место: она превращается в спутницу героя-воина: «И валькирией надо мною, / Ольга, Ольга, кружишь ты» [Гумилев 2001: 100].
Третий этап в осмыслении образа скальда приходится на последнее десятилетие ХХ в. Воз- никает вполне закономерный вопрос: почему же обращения к данному образу отсутствуют на протяжении практически 70 лет? Этот факт можно объяснить тем, что образ скальда является выразителем «духа времени» и ряда проблем, с этим временем связанных, но не принадлежит к числу вечных образов и не отличается универсальностью. Образ скальда в поэзии представителей движения ролевых игр и реконструкторов ассоциирован, во-первых, с любовной линией (в этом нам видится наследие поэзии Серебряного века), во-вторых, с осмыслением собственной идентичности в кризисную эпоху «смены парадигм», с мотивом поиска своего места в мире -вымышленном или реальном.
В конце ХХ в. возникает новый вариант развития сюжета «любовь воина-скальда и валькирии». Этот сюжет встречается в стихотворении Н. А. О’Шей «Королевна» (2005), впоследствии положенном на музыку и ставшем популярным среди представителей ролевой культуры. Герой, от лица которого ведется повествование, изначально заявляет о себе как о скальде: «Я пел о богах и пел о героях, о звоне клинков и кровавых битвах» [О’Шей 2005]. В образе скальда воплощены сакральные представления о поэте как «собеседнике Одина», наделенном даром предвидения и способном пересекать границы между мирами, что находит отражение в тексте: «Каждую ночь я горы вижу, каждое утро теряю зренье», «каждую ночь полет мне снится, холодные фьорды, миля за милей» [там же]. Возлюбленная героя - «королевна» из загадочной «чужой, соколиной страны» , находящейся «не во сне, а где-то около» . Герой осознает, что мир, где живет его возлюбленная, чужд человеку: «Знаю, что там никогда я не был, а если и был, то себе на горе» . Эддический мотив покровительства валькирии скальду реализуется через уподобление возлюбленной ангелу-хранителю: « Покуда сокол мой был со мною, мне клекот его заменял молитвы » [там же].
Наряду с патетической мифологизацией образа воина-скальда, таящей в себе отголоски «Легенды о Тристане и Изольде», имеются примеры иронического осмысления этого образа. Одним из примеров такого рода осмысления можно считать текст Н. В. Некрасовой (Иллет) «Песня о Вечном Воителе». Герой стихотворения - порождение ролевой культуры 1990-х гг., если не сказать, «жертва» этой культуры. Это образ переигравшего «ролевика», в мыслях которого царит хаос. «Вечный Воитель» (первоначально -основной персонаж цикла романов английского фантаста Майкла Муркока) - результат неуемно- го поглощения как фэнтези, так и средневековой литературы, обретшей наряду с первым популярность в 1990-е. В его сознании контаминированы героические образы разных эпох и авторов: «Мне не изменит Нотунга сталь / В смуте кровавых бурь, / Верен хозяину Дюрандаль, / Ждет сечи Эскалибур» [Иллет 2000]. Меч «Вечного Воителя» беспрестанно меняет названия, данные своим мечам эпическими героями: Беовульфом, Роландом, королем Артуром. Герой дезориентирован в пространстве: «Я тот, кто свой потерял Авалон, / Кто ищет Иерусалим, / Я тот, кого вечный ждет Танелорн, / Я тот, кого славит Рим» [там же]. Отношения героя с реальностью по мере развития поэтического сюжета становятся все более неадекватными. Бой, который воспевала ролевая культура середины 1990-х гг., также подается как событие, балансирующее на грани бреда и абсурда: «Вновь Олифант на битву зовет – / Эй, воин, седлай коня! / Я в бою прославлю свой древний род, / А барды прославят меня!» [Иллет 2000]. Между тем героем движут исключительно «души прекрасные порывы»: отвага, благородство, мужество. Однако в сегодняшней действительности воин-скальд оказывается своего рода Дон Кихотом: «Я – вечный воитель с бензопилой, / Герой грядущего дня! / Я – вечный воитель с бензопилой, / Санитары, держите меня!» [там же]. Теме сумасшествия героя не сопутствуют трагические мотивы, тем не менее если учитывать социокультурный контекст создания стихотворения, можно предположить, что они могут присутствовать в тексте имплицитно. Многие представители ролевой культуры 1990-х гг. буквально чувствовали себя «рожденными не в то время и не в том месте», сетовали на то, что их героизм растрачивается впустую в «эпоху безвременья», и ощущали это как трагедию поколения.
Образ скальда на протяжении своего существования в русской лирике трансформируется, усложняется, насыщается историко-литературными аллюзиями и реминисценциями. Несмотря на попытки поэтов XVIII – начала XIX в. в их творчестве строго следовать заданному в «Песнях Оссиана» канону изображения скальда-барда (обращение к мотивам одиночества, уныния, тоски по прошлому, однообразные декорации руин замков под северным небом), появляются и черты индивидуального мифотворчества, наиболее ярко проявляющиеся в переработке образов скандинавских богов. Образ скальда удачно попадал в резонанс с важной для русской литературы темой поэта и поэзии: ролевое «я» скальда связывается с позитивными для поэтического сознания мотивами увековечения, противостояния тлену, сопричастности истории. Образ скальда из категории экзотического органично перешел в русскую культуру и стал выразителем двух важных для культурного сознания идей – преодоления дисгармонии с настоящим и трансмиссии исторической памяти. В начале ХХ в. поэтическое внимание сконцентрировалось на развитии любовной линии (например, у Н. С. Гумилева) и осмыслении мировой культуры (можно проследить в лирике О. Э. Мандельштама). Образ скальда приблизился к своему древнеисландскому оригиналу – во многом тому причиной стал первый перевод песен «Старшей Эдды» на русский язык, сделанный Софьей Свириденко и получивший высокую оценку А. А. Блока. История и мифология Скандинавии, лишившись романтической абстрактности, приобрела конкретные, достоверные черты (как произошло в поэмах А. Н. Майкова).
Последнее десятилетие ХХ и начало XXI вв. связано с осмыслением лирическим героем себя и своего места в мире, с поиском идентичности и новых художественных форм через возвращение к древним канонам Старшей Эдды, использованием ролевого «я» культурных героев и творческой обработкой наследия Серебряного века (можно заметить у Н. А. О’Шей и Н. В. Некрасовой). В конце ХХ в. ролевое «я» скальда часто используется в качестве «рамочной конструкции» для репрезентации женского образа, например, валькирии, и этот факт легко можно связать с общей феминизацией литературы данного периода. Дихотомичные образы валькирии и скальда обретают структурную многофункциональность: они используются современной поэзией в качестве ролевого «мы», канонического образа возлюбленных масштаба Ромео и Джульетты. Любовной линии «валькирия – скальд» всегда соответствуют трагические мотивы – любовь мыслится в контексте испытаний.
Обращение к скандинавской тематике характерно для переломных эпох русской культуры. Мир Древней Скандинавии суров и жесток, он исключает надежду даже на покой после смерти (поскольку и после смерти павшие воины продолжают бой в Вальхалле) и поэтому созвучен жестоким периодам русской истории. Амбивалентный образ скальда, вовлеченного в поток истории поэта-воина, одновременно создателя и разрушителя, принадлежат к числу периодически актуализируемых образов, которые удобны для выражения мыслей в кризисную эпоху. Он является преходящей формой культурного бытия, появляющейся в периоды слома традиции.
Perm State University
ResearcherID: E-6738-2017
Submitted 01.03.2018
Список литературы Этапы и варианты становления образа скальда в русской лирике
- Абашева Д. В. «Я здесь беседую с минувшими веками.»: историческая память в лирике Н. М. Языкова. URL: https://cyberleninka.ru/ar-tide/n/ya-zdes-beseduyu-s-minuvshimi-vekarrii-isto-richeskaya-pamyat-v-lirike-n-m-yazykova (дата обращения: 30.01.2018).
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Правда, 1987. 482 с.
- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века» / Урал. гос. пед. ин-т. Екатеринбург, 1999. 170 с.
- Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. М.: Сов. писатель, 1964. 353 с.
- Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. 605 с.
- Батюшков К. Н. Соч.: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989. 719 с.
- Бреева Т. Н. Стратегия репрезентации национального мифа в славянском фэнтези.
- Буслаев Ф. И. О литературе: Исследования; Статьи / сост., вступ. статья, примеч. Э. Афанасьева. М.: Худож. лит., 1990. 512 с.
- Гидони А. Г. Скандинавская тема в творчестве Майкова // Север. 1972. Вып. 2. С. 115-119.
- Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.: Воскресенье, 2001. Т. 4. 396 с.
- Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М.: Наука, 1979. 192 с.
- Гуревич Е. А. Из скальдической поэзии // Studia Litterarum. 2016. № 3-4. С. 340-356.
- Державин Г. Р. Сочинения: в 9 т. / с объясн. примеч. [и предисл.] Я. Грота. СПб.: изд. Имп. Акад. Наук в тип. Имп. Акад. Наук, 1864. 673 с.
- Державин Г. Р. Сочинения / сост., биогр. очерк и коммент. И. И. Подольской. М.: Правда, 1985. 576 с.
- Елепова М. Ю. Рецепция оссианизма в русской поэзии первой трети XIX века.
- Зимек Р. Викинги: Миф и эпоха. Средневековая концепция эпохи викингов. URL: http://nor-se.ulver.com/articles/simek/vikings.html (дата обращения: 11.09.2017).
- Иллет (Наталья Некрасова). Поэзия. URL: http://www.kulichki.com/tolkien/kaminzal/poets.html (дата обращения: 11.01.2018).
- Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. 204 с.
- Мандельштам О. Э. Камень. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 416 с.
- Маркелова О. А. Северный текст в современной отечественной рок-поэзии. URL: https://cyber-leninka.ru/article/v/severnyy-tekst-v-sovremennoy-otechestvennoy-rok-poezii (дата обращения: 11.02.2018).
- Николай Гумилев. Электронное собрание сочинений. Чужие стихи. URL: https://gumilev.-ru/additional/42/ (дата обращения: 11.02.2018).
- О 'Шей Н. А. Стихи и песни. URL: http://www.melnitsa.net/music/pereval.html (дата обращения: 11.02.2018).
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л., 1937. Т. 7. 515 с.
- Самарин Р. М. Поэзия скальдов // История всемирной литературы: в 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1984. Т. 2. С. 486-490.
- Смирницкая О. А. Древнегерманская поэзия. Каноны и толкования. М.: Языки слав. культур, 2005.176 с.
- Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л.: Наука, 1967. 182 с.
- Стеблин-Каменский М. И. Скальдическая поэзия. Л.: Наука, 1979. 183 с.
- Федосеева Т. В. О предромантическом характере исторического мышления в русской литературе XVIII и XIX веков. URL: https://cy-berleninka.ru/article/n/o-predromanticheskom-hara-ktere-istoricheskogo-myshleniya-v-russkoy-literatu-re-rubezha-xviii-i-xix-vekov (дата обращения: 30.01.2018). References