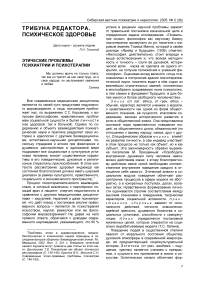Этические проблемы психиатрии и психотерапии
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 2 (36), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295077
IDR: 14295077
Текст статьи Этические проблемы психиатрии и психотерапии
Мы должны врачу не только плату, так как он тратит на нас свой труд, но и свое сердце; он заслуживает уважения и любви.
Сенека
Все современные медицинские дисциплины являются по своей сути продуктами недуховного мировоззрения, и лишь психиатрия приближает нас, по выражению С.С. Корсакова, к вопросам философским, нравственным, проблемам социальной сущности и бытия л ич ности (как здоровой, так и больной). Однако по содержанию и объекту взаимодействия психиатрическая наука и практика разделяет свою историю и идеологию с другими биомедицинскими, естественно-научными дисциплинами, поскольку страдания и агония при физических и душевных расстройствах в одинаковой мере подрывают все социальные и культурные установки человека, вносят существенные коррективы в его поведенческие, духовные и религиозные стереотипы приспособления. В этом контексте рассмотрение здоровья индивида как состояния благополучия должно иметь широкий диапазон (в рамках культурного, нравственного, социального и экономического пространств).1
Процесс психотерапевтического взаимодействия, в который вовлечены с партнёрских позиций врач и пациент, очерчен недостаточно в сравнении с другими медицинскими дисциплинами – хирургией, терапией и даже психиатрией, что даёт повод к постановке вполне правомерного вопроса – является ли психотерапия искусством, наукой, ремеслом или же философским мировоззрением? Не давая на него прямого ответа, обратимся к доводам современного науковедения, указывающего, что 90 % успеха в решении научной проблемы зависит от правильной постановки изначальной цели и определения задачи исследования. «Похвальное слово» философии как научному базису психотерапии прозвучало из уст писателя с мировым именем Томаса Манна, который в своём докладе «Фрейд и будущее» (1936) отметил: «Философия, действительно, стоит впереди и выше естествознания и, что всякая методичность и точность – слуги её духовной, исторической воли… наука не сделала ни одного открытия, не получив полномочий и указаний философии». Оценивая вклад великого «отца психоанализа» в построение здания психотерапевтической науки, писатель видит в нём «один из важнейших строительных камней, положенных в многообразно создаваемую ныне психологию, а тем самым в фундамент будущего, в дом более умного и более свободного человечества».
Э т и к а (от лат. ethica, от греч. ethos – обычай, характер) является учением о морали, о нравственности как одной из форм общественного сознания, её сущности, классовом содержании, законах исторического развития и роли в общественной жизни. Она представлена системой норм нравственного поведения людей, их общественного долга, обязанностей (по отношению к своему народу, семье, друг к другу). Специфическим образом м о р а л ь влияет на развитие личности, а сам индивид участвует в этом процессе не только как объект, но и как субъект. Эта закономерность образно выражена писателем М. Пришвиным: «Освободить внутреннюю душевную силу человека невозможно действием извне: к этому благоприятному действию извне силой необходимо соответственное внутреннее поведение каждого в отношении себя самого». Этический анализ в социальном модусе поведения облегчает рассмотрение процессов в сфере морали не абстрактно, а в конкретных поступках, делах, волевых актах. Нравственное формирование личности оценивается строгим соответствием между высоким сознанием и поведением, творческим характером социальной активности. Нр а вс т в е н н о е з д о р о в ь е зависит от осознанности действий, четкости осмысления, идейной зрелости, душевного богатства и социальных установок, способности к саморегуляции. И д е а л определяется постановкой жизненных целей, которые опираются на социально вырабатываемые модели (Т.С. Лапина).
Поведение людей в существенной степени зависит от морального состояния общества, духовной атмосферы в современной макросреде, её предшествующей социокультуральной истории. Эстети ка (от греч. aesthesis – ощущение, чувство) является учением о прекрасном, о сущности его проявления в жизни и искусстве. Эстетическое начало облегчает фор- мирование и закрепление в человеке чувства прекрасного и нравственного, усиление альтруистических качеств.
Этика является краеугольным камнем медицины со времен Гиппократа. На современном этапе остро встает вопрос о противоречивых обязанностях врача по отношению к обществу, а также о возможности использования психиатром своих знаний, умения и практических действий негуманным образом. Постулируется главный принцип врачебной деятельности: врач обязан отстаивать права больного на причитающуюся ему долю медицинских ресурсов, должен добиваться лечения всех пациентов на равных условиях, уважать личную неприкосновенность пациентов, при любых обстоятельствах проявлять заботу об их благополучии. Следует иметь в виду, что общемедицинские стандарты и юридические нормы не обеспечивают сами по себе достаточных гарантий этической деятельности в психиатрии (Веттерберг Л., 1997).
Эт иче ский анализ облегчает рассмотрение всех научных проблем укрепления и сохранения психического здоровья (индивидуального и общественного) в рамках существующих правовых и нравственных кодексов. Важна моральная сторона достижения психического здоровья «для всех и каждого» путем оздоровления конкретного индивида, семьи, коллектива, преодоления «инфарктогенности» некоторых лиц, защиты наиболее уязвимых социальных групп и возрастных категорий. Моделью социально-психологической коррекции может служить изучаемое в нашем коллективе психическое нездоровье безработных и бизнесменов. Прообразом выхода па проблему «успеха-неуспеха» является незаслуженно обойденная работа П.Б. Ганнушкина (1926) о «нажитой психической инвалидности совпартработников». Предотвращать возможные сокрушительные провалы, умело реализовывать себя, успевать завершать свое Дело – вот в чем смысл предупреждения духо в н о го « кр и з и са», краха идеалов и бегства в аддикцию.
Современные условия общественной жизни нередко предъявляют чрезмерные, трудно переносимые требования к психической деятельности человека, что содействует формированию различных поведенческих девиаций, вызванных кризисом идентич ности, проявляющимся на донозологическом или нозологическом уровне в четырех вариантах – аналитическом, диссоциальном, негативистическом, магическом (Положий Б.С, 1996). При первом из них (аналитическом) поведение индивида отличается понижением жизненного тонуса, интересов, активности, неверием в собственные силы, своеобразной аутизацией. Диссо-циальному варианту свойственны агрессив- ное отношение к своим оппонентам, доминирование угрюмо-злобного настроения в сочетании с легкой внушаемостью. Негативистиче-ский вариант характеризуется раздражительностью, упрямством, скептической оценкой всего происходящего и в силу этого уклонением от активности. Магическому варианту кризиса идентичности присущ жгучий интерес ко всему необъяснимому, мистическому, иррациональному со всеохваченностью поиском тайн бытия и мистических основ истины.
Всемирная психиатрическая ассоциация приняла «Мадридскую декларацию», в которой отражены правила в отношении этической деятельности в области охраны психического здоровья в 1996 г.2 Кратко приводим её основные тезисы. Психиатрия – это раздел медицины, занимающийся обеспечением лечения душевных болезней, реабилитацией лиц, страдающих психической болезнью, а также сохранением душевного здоровья. Психиатры служат пациентам, обеспечивая наилучшую доступную терапию в соответствии с общепринятыми научными знаниями и этическими принципами. Психиатры обязаны шагать в ногу с достижениями науки в своей специальности и передавать другим обновленные знания. Психиатры, занятые исследовательской работой, должны стремиться к расширению научных рубежей психиатрии. Пациент должен расцениваться как равноправный партнер в терапевтическом процессе. Информация, полученная в рамках терапевтических отношений, должна сохраняться в тайне и может быть использована только и исключительно с целью укрепления душевного здоровья пациента. Психиатрам запрещается использовать такую информацию в личных целях, для извлечения финансовой или академической выгоды. Проведение исследовательской работы в противоречии с канонами науки является неэтичным. Исследовательская деятельность должна быть одобрена надлежащим образом сформированной этической комиссией. При проведении исследований психиатрам следует руководствоваться соответствующими нормами, принятыми в своей стране и в мире.
На протяжении длительного времени отечественная психиатрия была лишена подобных нравственных «векторов», что приводило к обвинению в превышении правовых норм и в различных «злоупотреблениях». В настоящее время успешно преодолеваются негативные проявления последствий тоталитаризма в обществе, прежде всего в сфере развития амбулаторной и стационарной помощи душевнобольным: появляются новые законы, регулирующие психиатрическую помощь и методы лечения в России, успешно продвигается реформирование психиатрического сервиса, совершенствуются технологии продуктивного саногенного экологического преобразования среды (социальной и физической), разрабатываются системы вале-опсихологической гармонизации стилей жизни.
В известной мере с приведенными постулатами «Мадридской декларации» перекликаются принятые на р е ги о н ал ь н о м ур о в н е «Призывы к действию», которые рассмотрены в марте 1996 г. в Томске в рамках «Сибирской программы интегральной профилактики неинфекционных заболеваний». В программе констатируется, что хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, травмы и отравления, онкологические) являются причиной более 70 % всех случаев смерти населения в России. В большинстве случаев смерть наступает преждевременно, когда человек не успевает реализовать свой потенциал: ни духовный, ни творческий, ни профессиональный. Экономический ущерб, наносимый этими заболеваниями, огромен, а причиняемые ими боль и страдания неизмеримы. Научные исследования последних десятилетий дали нам знания о том, что перечисленные болезни не могут больше рассматриваться как неизбежное зло, так как являются следствием изменяющейся окружающей среды и образа жизни человека, а поэтому в большинстве случаев их можно предотвратить или отодвинуть на более поздний возраст. Признавая, что существуют научные знания и широко апробированные в других странах методы предупреждения хронических неинфекционных заболеваний, сибирские медики приняли обращение к политическим деятелям, правительственным организациям, ответственным за состояние здравоохранения, медицинской науки, образования, культуры, промышленности, сельского хозяйства, торгов- ли, транспорта; профессионалам-медикам, специалистам в области здравоохранения, образования и культуры; организациям, которые объединяют этих специалистов; средствам массовой информации; сотрудникам научноисследовательских учреждений; предпринимателям и организациям предпринимателей; частным лицам. Лейтмотивом обращения является призыв объединить усилия по преодолению эпидемического распространения хронических неинфекционных заболеваний путем проведения «здоровой» социально-экономической политики в обществе; изменения правовых норм; создания благоприятной окружающей среды; оказания медико-санитарной помощи, ориентированной на укрепление здоровья и профилактику заболеваний; поощрения здорового образа жизни и медицинских программ, направленных на предупреждение этих заболеваний среди всего населения. Сибирская программа призывает всех сделать шаг к здоровой и процветающей России.
Современная психотерапия коренным образом отличается от тех лечебных приёмов (вербальных и невербальных), которыми владели целители древности. Из сферы искусства (нередко мистического, навеянного суевериями и предубеждениями) она постепенно перекочёвывает в русло научной дисциплины со всеми соответствующими атрибутами. Движение научной мысли идёт по спирали: предыдущий столетний цикл психотерапевтической дисциплины, связанный с именем З. Фрейда, пройден. Сейчас психотерапия вновь поставлена перед выбором - что первично техника или слово? В нынешних условиях общественной жизни мы нуждаемся не столько в совершенствовании материально-технической базы, сколько в умелом регулировании душевного равновесия, преодолении состояний кризиса, стресса, фрустрации, способности оградить личность от негативного влияния социальных потрясений.
Общественная психотерапия предусматривает овладение человеком действенным «костылем» и надежной опорой в быстро меняющемся мире, направленное воздействие и благополучное разрешение всё более усложняющихся микросоциальных конфликтов, обретение нравственных ориентиров и целей. Добавим при этом, что этика, моральные критерии, границы и зоны использования врачебного влияния на пациента остаются фундаментальной задачей сложного прогресса психологического консультирования, коррекции и терапии. В то время как этнические параметры являются подвижными и зависимыми от социального климата, сам поиск и достижение «базовых» ценностей (таких как справедливость, сострадание, правда, истина, любовь) есть процесс вечный и непреложный - например, противо- стояние добра и зла, греха и преступления, порока и добродетели. Апеллирование за счёт психотерапевтического вмешательства к сохраняющимся на фоне болезни защитным, адаптационным механизмам социального реагирования означает поддержание и возобновление внутриличностной интеграции биологических, психологических и моральных качеств индивидуума.
Древний призыв «возлюби ближнего как самого себя» возвращает нас к извечной истине, восходящей своими истоками к догматам раннего христианства: «избегайте делать своему ближнему то, чего вы себе не желали бы». Между тем мы вынуждены признать, что проповедовать нравственность, говорить о моральных принципах в современных условиях относительно легко. Однако, к сожалению, мы нередко сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, о которой, перефразируя, можно сказать (пусть в полушутливо-иронической форме), что о нравственности пылко говорят «бывшие шлюхи и подшитые пьяницы» (Н. Леонов). С другой стороны, эмпатия порождает переживание общности, сходства и предсказуемости поведения, становится центральным фактором человеческого взаимопонимания, облегчает осуществление терапевтического влияния на всех уровнях (телесном, драматическом, действенном и, особенно, языковом). На этой почве устанавливается эффективный доступ к пациенту через разнообразные каналы (способ, практикуемый во многих терапевтических методиках).
В аспекте психотерапевтического взаимодействия чрезвычайно любопытна позиция О. Фришеншлягера (1999)3 по проблеме коммуникации отношений. Функция терапевта не ограничивается одними интерпретациями, а предусматривает проникновение «в чувственный мир пациента». Центральное значение для лечения имеет факт оценки пациентом результата лечения как поддерживающего, ободряющего, укрепляющего фактора (Grawe, 1995). В целом адаптивные и регулятивные процессы в коммуникации и интеракции представляют собой основу как развития структур, так и психотерапевтического воздействия. Этот способ лечения является единственным, при помощи которого устраняются расстройства, исторические корни которых находятся в сфере коммуникации. Отсюда главная цель феноменологического научно-исследовательского аспекта психотерапии – в обоюдном, субъективном восприятии «значения» переживаний и пережитого, языковом взаимопонимании между врачом и больным (Вольфрам Э.-М., 1999), глав- ное достижение феноменологии – это «удачное сочетание крайнего субъективизма и крайнего объективизма в её понимании мира и разума». Таким путем мы достигаем понимания «личного в универсальном и универсального в личном».
Признавая сложный процесс психотерапевтической работы как сеанс партнёрства, многочисленные исследователи подобного процесса взаимодействия обращают внимание в основном на место и роль пациента в этой лечебной среде, оставляя в тени психологическое состояние самого врача и возможные последствия его многолетней психотерапевтической деятельности. Именно поэтому заслуживает анализа позиция врача в этом сложном взаимодействии. По сути дела она сводится к двум альтернативным вариантам – нейтральности как средства защиты и синдрома перегорания как результата «эмоционального истощения и цинизма».
Понятие «нейтральный» по отношению к позиции психотерапевта означает, что он не выступает в роли арбитра, а стремится понять пациента, оставаясь нераскрытым в своих вкусах, предпочтениях, собственных проблемах. В этом свете психотерапия оценивается как научное использование влияния одного человека (целителя) на психологические проблемы другого (пациента). Психотерапевтическое взаимодействие будет бесплодным, если, решая задачу создания атмосферы интимности и доверия, не будет включать общность переживаний. Без тесного взаимодействия психотерапевтическая эмоциональная атмосфера не может возникнуть – ни тот, ни другой участники процесса не должны позволять себе избегать осознания гуманности, человечности самой личности целителя.
Степень выраженности синдрома перегорания определяется, главным образом, культуральными особенностями, а также склонностью представителей психотерапевтической группы более высоко оценивать роль психологических причин, лечебной идеологии (отдавая приоритет рабочему альянсу между врачом и пациентом), наличию удовлетворительной социальной поддержки, возможности «открытого выражения чувств и творческой активности пациентов», возложению на них «ответственности за ход терапии». Ощущение недостаточности личного достижения среди российских медицинских работников (в сопоставлении со шведами и американцами) может быть результатом осознания собственной неспособности «соответствовать стандартам охраны психического здоровья в современных неудовлетворительных условиях», что составляет, по мнению авторов статьи, «чисто русскую специфику синдрома перегорания».
Термин «выгорание», или «сгорание» предложил Н. Freudenberger в 1974 г. для описания деморализации, разочарования, крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений. Оказалось, что данный термин подходит для описания определенных состояний, наблюдаемых у врачей и многих других специалистов, работающих в системе профессий «человек-человек». Акцент в понимании симптомов этого состояния был перенесен на патологию профессиональной деятельности.
Полноценно функционирующая личность, самоактуализирующийся, самореализующийся человек гармонично взаимодействует с другими людьми и миром в целом, он наделен определенным «запасом прочности», на основании которого он может не только утилизовать стрессор, но сделать его фактором самодетер-минации. При эмоциональном выгорании изменяется система смыслов и ценностей личности, психоэмоциональные затраты начинают превышать личностно значимый ожидаемый результат, поэтому изменяется отношение субъекта к своим профессиональным обязанностям, происходит отчуждение от предмета и продукта своего труда.
При всём многообразии профессиональноличностных типов взаимодействия можно выделить нечто общее для всех участников современного психотерапевтического сервиса – это стремление к единению, диалогу, взаимо-обогащению и взаимопроникновению отдельных школ и направлений, сближению отечественного и зарубежного опыта терапии, развитию и совершенствованию личностных качеств врача-психотерапевта. Обратим внимание на несколько постулатов Роберта Гуттерера применительно к оценке психотерапии: ни один из её методов не имеет преимуществ перед другими. Психотерапия вызывает значимые изменения и преобразования личности; более длительные методики являются эффективными; квалифицированные психотерапевты достигают лучших успехов в лечении; активные клиенты в итоге получают заметно лучшее улучшение. Весьма важно не устранять повседневные стрессы, а предпринимать тр ивиализа-ц ию профессии и самого психического заболевания.
Превентивная персонология и психотерапия в их новом формирующемся облике неизбежно сталкиваются с проблемами, в которых личность пациента становится центральным объектом лечебного и реабилитационного процесса. По мнению французских психотерапевтов И. Дежерина, Е. Гоклера (1912)4, конечной це- лью лечебного вмешательства является перевоспитание личности («моральная ортопедия»), которое проводится на основе тщательного анализа особенностей характера, его неустойчивости, излишней эмотивности. Это позволяет прежней личности, находящейся в «полуразрушенном состоянии», восстановиться. «Реконструкция личности больного нередко оказывается невозможной, пока не будет устранено препятствие (это сомнения, угрызения совести и упрёки, которые поддерживают состояния «моральной депрессии»)». Психотерапевт берёт на себя роль «светского исповедника», облегчающего пациенту возможность «простить себя и забыть ошибки прошлого». И. Марциновский (1913) в работе «Нервность и мировоззрение» основной задачей психотерапии считает перестройку мировоззрения пациента: «Болезнь – это ложная мысль, ошибочная оценка ничтожных пустяков, одним словом, самообман… это тщетная тревога из-за кучки праха». Поэтому надо дать человеку определённую цель – «чем более она будет возвышенной, тем лучше», и лишь тогда он привлечёт к себе на службу логику и возможность ею правильно пользоваться. Психотерапевты новой волны иногда используют непрошеную интервенцию внутреннего мира целителя в интимную жизнь пациента, не принимая во внимание необходимость вовлечения больного в сотрудничество на глубоком эмпатийном уровне.
В ряду социально-психологических вопросов взаимоотношений «пограничного» пациента с медицинским персоналом, широкой общественной средой и ближайшим семейным окружением важное место отводится проблемам стигматизации и комплайенса. Весьма ёмкими являются понятия, связанные с системным видением больного и комплексным воздействием не только на самого пациента, но и на окружающий его ландшафт. Для пациентов с затяжными, хроническими формами психической патологии весьма значима проблема ст игма т из а ц ии (по М.М. Кабанову, стигма является этикеткой, ярлыком, накладываемым на пациента, пользованного психиатром в больничных условиях). Речь идёт о паническом страхе не только со стороны пациента, но и его ближайших родственников перед постановкой на диспансерный учёт, о боязни (мнимой или реальной) грядущих негативных последствий психиатрического диагноза. Несмотря на существенные положительные сдвиги в общественном сознании и принятие законов о правах душевнобольных, процесс «д е з а л и е н и з а-ции» (снятия печати обречённости, безнадёжности, неизлечимости психического расстройства) по-прежнему остаётся приоритетной за- франц. М., 1912.
дачей для клинической и превентивной персо-нологии и психиатрии.
С опасениями этикетирования, стигматизации тесно связано состояние к о м п л а й е н-са (compliance), предусматривающее осознанное выполнение пациентом рекомендаций врача. Оно имеет в виду наличие достаточно критического отношения субъекта к содержанию психопатологических переживаний, к режиму наблюдения и реабилитации данного лечебнопрофилактического учреждения. Выраженность комплайенса (как и степень стигматизации) зависит от стиля работы медицинского подразделения, «его репутации, профессионализма персонала, психотерапевтических качеств психотерапевта» (эмпатии, умения общаться и т.д.) и даже от названия учреждения. Такую функцию выполняют реабилитационные центры, областные и краевые Центры пограничных состояний, межведомственные центры психического здоровья, широкая сеть психотерапевтических диспансеров, кабинетов, поликлиник (оказывающих комбинированную консультативную и корригирующую медико-психологическую и социально-психологическую помощь различным категориям пациентов), центров по преодолению аддиктивных расстройств, клубов и служб ранней превенции, психогигиенического консультирования и т.д. Проблема успешного сотрудничества пациента с врачом (комплайенс) составляет важную задачу по улучшению стиля и качества жизни, по своевременному предупреждению индивидуально неразрешимых психологических проблем и коллизий.
Р. Кочунас выделяет несколько стилей в работе психотерапевта и типы самого психотерапевта: агрессивный, любящий, не вмешивающийся лидер, «социальный инженер», «техник», холодный (для сравнения сошлёмся на типологию основоположника трансактного анализа Э. Берна: делегат, улыбающийся бунтарь, клиницист-пациент, жонглёр-фокусник, консерватор, ипохондрик, удивлённый). Для участников терапевтической группы наиболее желателен позитивный стиль проведения сеанса, наименее приемлем – агрессивный. Добавим при этом, что груп п о вая д и н а м и ка обнаруживает самые скрытые, латентные и мало осознаваемые стороны личности пациента, облегчает точную диагностику характерологических параметров и определяет степень адаптационных возможностей.
Как проявление социальной и профессиональной дезадаптации в системе «врач-пациент» оценивается (Семке В.Я., Стоянова И.Я., 1999) поведение, определяемое магическим или мистическим мышлением (обычно рассматриваемое в рамках архаического, мифологического, иррационального). Оно, как правило, противопоставляется логическому, рациональному поведению как более адекватному, конструктивному, реально отображающему объективную действительность. Проблема изучения м еха н и з м о в п с и хол о г и-ч ес ко й за щ и т ы личности особенно важна для выбора терапевтической тактики; их адекватное включение содействует снижению тревоги, вызванной интрапсихическим конфликтом, психического дискомфорта и повышению самооценки. При личностных расстройствах истерического круга наиболее частыми являются вытеснение, механизмы перцептивной защиты, подавление, блокирование (задержка, торможение эмоций и мыслей, вызывающих тревогу), отрицание (непризнание, отвержение ситуаций, конфликтов, игнорирование тягостной реальности), а также приёмы манипулятивного типа.
В целом через исследование различных типов мышления и поведенческих стереотипов намечается путь к формированию новой общей и клинической персонологии, основанной на модели «человека будущего» – человека разумного, гуманного, ноэтического. Осмысливая ситуацию современных и будущих взглядов на судьбы человечества, все более проникаешься идеей всеобщего противодействия основному злу действительности во имя высших общечеловеческих идеалов, ради тех нравственных норм, которые не позволяют человеку попирать права других, но устраняют рознь и ненависть между людьми.