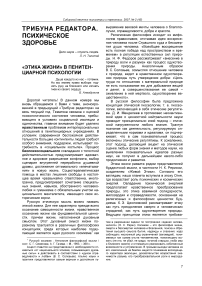«Этика жизни» в пенитенциарной психологии
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 2 (45), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295190
IDR: 14295190
Текст статьи «Этика жизни» в пенитенциарной психологии
Душа каждого из нас – потемки. Но мы имеем право выбора: поднять руку на ближнего или изгнать гнев из своего сердца.
Б. Ахмадулина
Дорогой читатель! В данном номере мы вновь обращаемся с Вами к теме, анонсированной в предыдущей «Трибуне редактора» на весь текущий год. Тематика связана с оценкой психологического состояния человека, пребывающего в условиях социальной изоляции и одиночества, главное внимание будет уделено нравственным проблемам интерперсональных отношений в пенитенциарных учреждениях. В условиях современной беспокойной действительности большие контингенты людей требуют особого внимания, поддержки, испытывают потребность в «социальном костыле». Процесс биопсихосоциального совладания с тягостной действительностью предусматривает адекватное и здоровое разрешение конфликта, выбор сценария внутренней переработки душевной драмы, достижения оптимального «впечатывания» в новую жизнь. Социотерапевтическая помощь в местах лишения свободы в настоящее время чрезвычайно ответственна, многогранна, предусматривает сочетание специальных знаний, навыков, обостренного человеколюбия и гуманизма с обязательным учетом национального менталитета, имеющего свои исторические корни.
Русскую этическую мысль можно назвать этикой жизни. Для нее характерно прежде всего осознание самоценности жизни, нравственное осознание жизни как фундаментальной ценности, причем жизни, наполненной духовным смыслом. Этот духовный смысл жизни по-разному трактуется в различных философских концепциях, среди которых наиболее подкупающей является идея русского космизма1 как выражение вековой мечты человека о благополучии, справедливости, добре и красоте.
Религиозная философия исходит из мифологем православия, отстаивая идеи воскресения человека после Страшного суда и бессмертия души человека. «Всеобщее воскрешение есть полная победа над пространством и временем» в регуляции естественных сил природы. Н. Ф. Федоров рассматривает «внесение в природу воли и разума» как процесс одухотворения природы. Аналогичным образом В. С. Соловьев, осмысляя отношение человека к природе, видит в нравственном одухотворении природы путь утверждения добра: «Цель труда по отношению к материальной природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствования ее самой – оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного».
В русской философии была предложена концепция этической гносеологии, т. е. гносеологии, включающей в себя этические регуляти-вы. Д. И. Менделеев в противовес неокантианской идее о ценностной нейтральности науки проводит принципиально иной подход – этической нагруженности любого знания. Трактуя познание как деятельность, регулируемую определенными нормами и идеалами, он подчеркивает, что в сам познавательный процесс включены этические регулятивы. К сожалению, этот подход, делающий акцент на этической оценке любых форм знания и методов науки, на выявлении познавательных идеалов разных наук, не получил в дальнейшем какого-либо продолжения и развития.
Этика жизни развита рядом представителей буддистской мысли, в частности H. К. Рерихом, создателем «Живой Этики». Согласно его взглядам, наша планета вступила в эпоху Огня, где возрастает роль психических и космических энергий. Овладение психической энергией предполагает нравственное преобразование природы, это этика взаимной солидарности, милосердия и справедливости, основанная на религиозных и философских ценностях буддизма. К. Э. Циолковский рассматривает этику как путь преодоления смерти и человеческих страданий, как путь одухотворения природы. Ведущим принципом этики является требова- тем в разрешении задачи по построению «здания человеческого» (Н. К. Рерих). Космизм – это философия жизни, смерти и бессмертия человека и Вселенной, поиска и обретения высшего смысла бытия, надежды и спасения; надо соблюдать несложный ряд ограничений (заповедей), понимаемых как сумма опыта человечества, помогающего выжить (не лги, не убий, не кради, почитай старших, люби мир и ближнего своего) и оптимально реализовать собственные возможности и устремления. В призыве выхода человека из его «заключения на Земле» видится понимание восходящего характера эволюции, доказательство возрастания значимости разума, его преобразовательной роли в мироздании.
ние, чтобы «все живое благоденствовало», поскольку «жизнь непрерывна, смерти нет». Всё же это направление в русской этике было далеким от моральных коллизий повседневной жизни, от анализа критических ситуаций, требующих морального выбора. Она выдвигала скорее абсолютный вектор в ориентациях человека, в его отношениях к миру, к другим людям, к животным и жизни вообще.
Не приемля неокантианского ограничения этики анализом нравственного поступка личности и нравственных отношений между людьми, разрыва между теоретическим и практическим разумом, Н. А. Умов проводит мысль о том, что этика должна основываться на осмыслении специфичности жизни, что этика неразрывно связана с естествознанием: «Погружение мысли исключительно в область узкочеловеческих интересов приводит к нравственной беспомощности при неудовлетворенности жизни». Основная цель этики – в стремлении устранить бедствия человеческой жизни с помощью деятельного вмешательства в жизнь природы, в превращении хаотических сил природы в организованные, «стройные». Он выдвигает основную заповедь новой этики: «Твори и созидай на основе научного знания », определяя ведущие ценности новой этики жизни (как борьбу с хаосом), любовь и творчество.
Любовь к ближнему, на которой основывается христианская этика, является, по мнению Д. П. Филатова, лишь частным случаем этики любви к жизни. Этика альтруизма также представляет собой частный случай новой этики, поскольку в центре ее – не узколичные интересы представителей новой морали, а интересы всех людей и, более того, всего живого на земле. Люди, принявшие эту мораль высшего альтруистического типа, любят всю жизнь в целом: «их любовь к людям есть только подробность этой общей любви и подчинена ей, как подчинена целому». Он называет любовь к жизни таким отношением к существованию, благодаря которому «достигается то полное слияние с миром, о каком многие живущие сознательной жизнью только мечтают».
Проблема нравственного совершенствования человека становится главенствующей во всех программах обновления общества в XXI веке. Вне духовного начала становятся бессмысленными все высокие технологии и информационные «прорывы» в высокоразвитых странах и континентах, в равной степени подверженных негативным социальным и экономическим воздействиям – на разных полюсах человечества, в различных климатогеографических зонах должна осуществляться единая модель духовного совершенствования «человека ноэтического», базирующаяся на строгой «лестнице» духовно-телесных потребностей.
Противостояние разрушительным тенденциям в современном обществе основано на единстве действий всех лиц, ответственных за поддержание и укрепление психического здоровья нации. Между тем, оно раздирается корыстными устремлениями отдельных групп, заинтересованных в сбыте и распространении социально опасного «товара» (табака, алкоголя, наркотиков, азартных игр, сексуальных излишеств и т. п.), в материальном приросте своего легального, полулегального и нелегального бизнеса. Выход из тупиковой ситуации видится в переносе ответственности за грядущее психическое здоровье новых поколений на личность каждого россиянина, осознающего опасность само-разрушающего поведения, подстерегающего его в любой из фаз жизненного пути.
Рассмотрение зон соотношения психического здоровья и духовности позволяет наиболее отчетливо изложить позиции по сложной проблеме взаимодействия религии и медицины, прежде всего в сфере терапевтических вмешательств, где грань науки и верования трудно различима. Игнорирование необходимости соблюдения триединства человеческого «Я», сдвиг или «перекос» в пропорции телесных, социальных и духовных потребностей чреваты появлением чисто человеческих пограничных уклонений, клинико-социальные проявления которых не поддаются перечислению, однако могут быть сведены в определенные кластеры и группировки. В единстве и взаимодействии этих основных тенденций самосохранения, динамики личности содержится и возможность отображения, постижения «души народа» («этоса» в понимании Л. И. Абалкина) как целостности аксиологических и праксиологических моментов, характеризующей органичное соединение духовного и материального, пропорция в соотношении которых может служить ключом к этнокультуральной идентификации, определению «национального стиля», «национального характера». Достижение гармонизации личности в ходе психотерапевтической работы происходит за счет разрешения противоречий и совершенствования функций тела, души и духа, умения успешно сбалансировать собственную жизнь. Под духовностью понимают способность индивидуума «различать и выбирать нравственные ценности и подчинять им свои поступки, поведение, способ жизни, а также характер деятельности в природной и социальной среде», включая формирование персональных ценностных ориентаций.
Любой человек имеет собственные представления о добре и зле, нравственном и безнравственном, красоте и уродстве, истине и заблуждении, любви и ненависти, о главных ценностях со бытия – совместного бытия в обществе. Разумеется, острота этих потребностей весьма различна, человеческая индивидуальность проявляется и в этой сфере. Жизнь личности протекает благодаря множеству процессов, которые, сливаясь, и образуют самый процесс жизни. Стержневыми процессами, по мнению Л. В. Куликова, являются функционирование, самоуправление, развитие и адаптация. Все процессы тесно связаны: нарушения в протекании одного негативно сказываются на другом. Невозможность нормально функционировать по внутренним (то или иное дисфункцио-нирование) или внешним причинам приводит к нарушению самоуправления и саморегуляции. Дисфункционирование ограничивает развитие или делает его невозможным, поскольку человек не в состоянии быть продуктивным, создавать нечто новое, полезное для других, интересное. Дисфукционирование нарушает и адаптацию субъекта, не способного к продуктивному поведению и деятельности, ограничивает его влияние, социальные роли, приводит к излишней зависимости от окружающих, также как и неадекватное самоуправление, дисрегуляция нарушает остальные процессы.
Эксперты ВОЗ определяют катастрофу как ситуацию с непредусмотренными, серьезными, непосредственными угрозами общественному здоровью, поскольку психогенные психические расстройства приобретают важное социальное звучание за счет формирования коллективного дистресса . На его основе развивается хроническое стрессовое состояние, диагностируемое в больших массах пострадавших в очагах катастроф, стихийных бедствиях, в условиях пребывания в заключении. По клиникофеноменологическим параметрам кризисные ситуации подразделяются на психосоциальные, экологические, психогенные, онтогенетические, гендерные, экзистенциальные, транскультуральные, пресуицидальные, аддиктивные.
Социальные процессы в современном обществе носят негативный характер, недаром в лексиконе видных социологов все чаще употребляются такие термины, как дезинтеграция, дестабилизация, депопуляция, деградация. Разрушение традиционной семьи в конце XX века японский социальный психолог Фрэнсис Фукаяма назвал «великим разломом», значительно уменьшившим радиус доверия между людьми. Наступает пора осмысленных действий по преодолению этих негативных тенденций. На основе клинико-патогенетического материала нами (Семке В. Я., 2001) выдвинута гипотеза о родстве пограничных и аддиктивных состояний, устанавливаемом как на этапах их раннего формирования (по механизмам «невротизации» населения), так и в ходе последующей клинической динамики. Такого рода трактовка подводит исследователя не только к пониманию этиологии и патогенеза психопато- логических явлений, но и к выбору направленной, комплексной, патогенетической терапии, реабилитации и превенции.
При отбывании наказания в исправительном учреждении или нахождении в следственном изоляторе процесс перевоспитания осужденных осуществляется все же в относительно неблагоприятной среде социальной изоляции и покинутости. Антиобщественная направленность личности осужденных искажает ценностные ориентации, нередко приводящие к круговой поруке, насилию, паразитизму, стремлению к противопоставлению администрации. Среда осужденных неоднородна по составу даже в пределах одной колонии. Она разнообразна по национальному составу, возрасту, образованию, интеллекту, степени общественной опасности, антисоциальной направленности и социально-нравственной испорченности (Дановский С. Л. и др., 1982). Данная проблема охватывает широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия осужденных со своей средой, определения ее элементов, характера межличностных и межгрупповых отношений, механизма социально-психологической адаптации к новым условиям жизни и микросоциальному окружению, образования неформальных групп, влияния групповых процессов на личность и формирование коллектива осужденных в колонии, факторов, определяющих интенсивность этого влияния и т. д.
Особенностью пребывания осужденных в местах отбывания наказания является их несоответствие правовому положению, определенному государством, и моральным «нормам», вносимым самими осужденными. Это оказывает решающее влияние на неформальную сторону жизни и быта заключенных. Формальная сторона их нахождения нацелена на то, чтобы все сферы их жизни могли быть предметом контроля и вмешательства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ИК т. н. личная жизнь сохраняется и течет в зависимости от принадлежности осужденных к тому или иному уровню иерархии их общества или тому или иному неформальному объединению. Эти процессы хотя и касаются жизненных интересов осужденных, протекают относительно незаметно для администрации и базируются не на формальных предпосылках, а на моральнопреступных традициях и социальных ценностях среды осужденных. Их основой являются криминальный опыт, авторитет и широта контактов в преступном мире, длительность и частота пребывания в колониях, знание правил и законов преступного мира и их соблюдение, ловкость и умение обманывать представителей администрации, следственных органов и суда, пренебрежение к труду и общественной морали, культ физической силы.
Следует придавать большое значение социально-психологическим явлениям, свойственным неформальным группам и личностям, взаимодействующим в этих группах. В этом плане микросреда осужденных подразделяется на большие и малые неформальные объединения (группы) по национально-этническому и территориальному признакам («землячество»), по виду деятельности, характеру преступления, возрасту, интеллекту («семья»). Выделение этих групп чисто условно. В основе их объединения лежит предубеждение осужденных о мнимой «незащищенности» в колонии от физически более сильных и «авторитетных» лиц и возглавляемых ими негативных группировок.
Особое место в ИУ занимает малая социальная группа («семья»), которая оказывает непосредственное воздействие на формирование личности, строится на личностных контактах. Права и обязанности ее членов не имеют четкой регламентации и определяются неписаными нормами и правилами поведения, личностными качествами и авторитетом ее участников. Практика показывает, что малые неформальные группы складываются из 3—7 человек стихийно, в процессе межличностных отношений осужденных. В них состоит в колонии большинство осужденных, сблизившихся вследствие общности взглядов и интересов, взаимной симпатии, дружбы, личной привязанности, сходства социальных установок и ценностных ориентаций, одинакового отношения к различным событиям, ситуациям жизни и быта. В малой группе осужденный находит людей, которые более опытны и берут на себя роль лидера , морально поддерживают и защищают его, делятся информацией и продуктами, а главное – он находит психологически совместимых личностей. Состоянием субъективной незащищенности индивида пользуются «авторитеты» из числа отрицательных лидеров, чтобы затянуть неопытного осужденного в свою группу, обещая покровительство и заступничество, используя его для реализации своих криминальных интересов или толкая на правонарушение. В малых группах на основе дефектных взаимоотношений формируется состояние ложной защищенности и сопутствующей ей озлобленности на другие группы осужденных и сотрудников, в том числе и медицинских работников.
Следует учесть и психологическую противоречивость в отношениях членов малой группы, зависимых от ее лидера. В случае «обиды», наносимой малой группе осужденных или отдельным ее членам, на «выручку» приходит вся группа, в том числе и ее лидер. Но если же над отдельным членом группы, чаще физически слабым или больным, издевается более сильный, куражится или унижает его, то защиты не будет, а сам униженный или оскорбленный (даже если над ним совершен гомосексуальный акт), как правило, не порывает с малой группой, боясь попасть в еще худшее положение. В такой группе создается лишь видимость защищенности осужденного от претензий других негативно настроенных в колонии лиц, на самом деле полная внутригрупповая незащищенность, порождающая черствость, жестокость, культ силы, угодничество, равнодушие. Все это необходимо знать медицинским работникам при организации и осуществлении лечебных мероприятий в отношении больных в местах лишения свободы.
В настоящее время администрация проводит в колониях и тюрьмах работу по разложению воровских традиций и р а з в е н ч и в ан и ю авторитета «воров в законе». Однако они не исчезли, а приспособились к новым условиям, продолжая паразитировать, вовлекать в свои ряды новых членов, подчинять своей воле других осужденных. «Законники» и сейчас стараются внушить не только осужденным, но и работникам ИУ, что они являются поборниками «арестантской справедливости», играют в мнимое благородство, «разрешают» возникающие конфликты между осужденными, но это нередко приводит лишь к обострению межличностных отношений и даже тяжким преступлениям.
Практика работы по развенчиванию преступных авторитетов дает основание выделить составные элементы взаимодействия частей и служб в ИУ в этом направлении: изоляция «авторитета» от отрицательной части осужденных, у которой он пользуется поддержкой (ШИЗО, перевод в другой отряд и т. п.); создание условий, исключающих соблюдение неформальных правил поведения, принятых в среде негативных лидеров (уборка помещений и территории, чистка картофеля и др.). Следует иметь в виду, что перечень запретов нередко изменяется «авторитетами» в зависимости от местных особенностей; соответственно должны видоизменяться и стили работы с заключенными: выработка недоверия к неформальному лидеру путем использования компрометирующих его материалов, разногласий по поводу «чистоты поведения вора», принятых в преступной среде; целенаправленная воспитательная работа по разъяснению пагубности соблюдения «воровских традиций» и асоциального образа жизни.
В работе по компрометации лидеров преступного мира следует учитывать, что в их среде наблюдается деление на «воров в законе» нового и старого поколений. «Воровская идея» последних основана на личной преступной деятельности, что неизбежно приводит их к многократному пребыванию в местах лишения свободы. Находясь в ИУ, «воры в законе» старого поколения стараются поддерживать «справед- ливые» взаимоотношения среди осужденных, а также избегать конфликтных ситуаций с администрацией. «Воры в законе» нового поколения основную цель своей преступной деятельности видят в «добывании» денег, материальных средств и других ценностей. Для признания «вором в законе» этой категории не обязательно отбывать наказание в колонии. В своем поведении в местах лишения свободы они нарушают «воровские традиции», ведут себя дерзко, что приводит к крайнему недовольству спецконтингента («беспределу») и потере авторитета их «воровского звания». Отдельная часть «воров в законе» старого поколения не признает их «воровского титула». Это нередко приводит к их психологической несовместимости. При проведении лечебно-воспитательных мероприятий следует учитывать, что в исправительных учреждениях существует неформальная иерархия осужденных, состоящая из различных структурных ступеней (Хохряков Г. Ф., 1982).
Практика работы в ИУ говорит, что психологической особенностью осужденных нередко является стремление к завоеванию более высокого личного статуса («авторитета») в структуре неформальных объединений («семей»), в которой каждый из них находит удовлетворение своим потребностям. В зависимости от ступени сообщества отмечается и эмоциональный фон в «семьях». В еще недавние времена, когда перенаселенность колоний превышала все лимиты, доля людей этой категории в общей массе осужденных в некоторых местах позволяла администрации даже объединять их в отдельные отряды. Сейчас положение легче: амнистии, гуманизация государства, направленные на смягчение условий, значительно уменьшили и эту категорию осужденных. Но проблема осталась (Маймистов И., 1989). Люди эти – отверженные по сути. На колонистском языке это «обиженные», «опущенные», «мастовые», «козлы» и пр. Так, в семьях «отрицательных» сильнее ощущаются иерархия, подчиненность внутрисемейных отношений той роли, которую играют «заправилы», «паханы» и «углы». В этих семьях ощущается борьба за статус в группе. В семьях «нейтральных» взаимоотношения строятся на принципах дружбы, уважения, взаимопомощи, хотя материальные отношения между членами семьи остаются ведущими.
Медицинским работникам следует подходить к состоянию больных на основе целостного понимания личности, всегда учитывая сложные взаимоотношения в среде осужденных. Психическое напряжение, конфликтные ситуации в секции, особые интерперсональные взаимоотношения в больших и малых неформальных группах, в отряде с воспитателем, в медицинской части с врачом и медицинской сестрой не могут не отразиться на психическом состоянии больного человека в условиях изоляции. Эти психические изменения выражаются различными симптомами, именно они определяют формы поведения больного, особенности контактов с окружающими и медицинским персоналом, а также пути и возможности воздействия на его психику медицинских мероприятий посредством сочетанных этических и эстетических подходов.
Широкое общественное движение в стране своим вектором действия избрало коренной пересмотр характера, содержания форм и методов эстетического образования и нравственного воспитания, поставив в центр образовательного процесса гармоничное развитие личности на основе гуманной педагогики и вале-опсихологической эстетики . Эстетический подход, по мнению Л. С. Выготского (1979), является «одним из самых психологически плодотворных приемов, обладающих необычной доказательностью своего действия». В современных условиях культура выполняет корректирующую функцию в развитии науки и техники, выступая посредником в разрешении острых противоречий между материальным и духовным, между человеком и техникой. Наконец, важно осознание значения культуры в контексте преодоления психологической инфляции, духовной опустошенности посредством усиления процесса индивидуализации (утверждения своей уникальности) и поиска путей устранения экзистенциального одиночества за счет компенсации состояниями эмпатии, сопереживания, наслаждения встречей с другой, уникальной личностью (эстетокоррекция и эстетотера-пия). В ходе оздоравливающего процесса формируется представление о независимой эстетической парадигме, в пределах которой переосмысляются ценности искусства и ценности природы, когда первостепенную значимость приобретает эстетика реального мира, в отличие от эстетики воображаемого мира искусства, где границы динамичны и трудно уловимы.
Роль эстетического начала в этом процессе весьма значима, что отражено в высказывании А. В. Крыжановского: «Современная психотерапия есть великое достояние цивилизации. Она основывается на человеческой солидарности и на уважении к духовным ценностям личности». С точки зрения такого подхода культура есть синтез знания и красоты, познавательного и прекрасного, когда происходит воспитание вначале чувств, а затем ума, когда бережное воспитание открывает возможность правильному образованию. Терапия творчеством подчеркивает целительный момент всякого творчества, оттеняя понимание психотерапии как терапии средствами души, терапии счастьем быть самим собой в жизни среди других людей с осознанием своей общественной полезности. Врач средствами духовной культуры, профессионально растрачивая душу, помогает пациентам осознанно и вдохновенно обрести свое место в мире, творчески раскрыть для общества свои скрытые духовные резервы. Творчество по существу есть выход, исход, победа (по Н. А. Бердяеву), активное эволюционное формирование будущего. Процесс творения – это порыв, исступление, экстаз в переживаниях, которых человек осознает себя как личность (Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 4. С. 39, 67).
Психотерапевтический подход с концепцией творческого самовыражения обращает врача к эмоционально-стрессовому (общественно-возвышающему, одухотворяющему, затрагивающему духовные струны личности) отреагированию на душевные кризисы и конфликты. Способность к творчеству является высшей человеческой функцией, отвечающей духу общественной жизни современности – п р и о р и-тету человеческого фактора, росту творческой деятельности под лозунгом «Выживание и счастье через творчество» путем реализации творческого звучания Духовности и Красоты, переживания чувства Прекрасного. Цель такого воздействия – пробудить у субъекта живое восприятие окружающего, умение поощрять живое фантазирование.
Личность формирует отношение к жизни с ее проблемами и «зигзагами судьбы», умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не ожидая «вдохновения» или особых условий для творчества. Интеграция различных психических функций задействует весь потенциал человека для целенаправленной реконструкции личности. Человек открывает общие закономерности творческого процесса как в искусстве, так и в жизни. Постепенно два понятия соединяются в одно – ИСКУССТВО ЖИТЬ, т. е. умение складывать из мозаики ежедневных событий, явлений, представлений цельную картину окружающего мира, вносить порядок в хаос и сделать из него нечто имеющее смысл.
Валеопсихологическая эстетика направлена на решение важнейших персонологических проблем, среди которых наиболее значимыми являются создание достойных человека условий учебы, труда и отдыха, гармонизация отношений между людьми, выработка личностью душевных способностей к адаптации в «изменяющихся обстоятельствах бытия», оптимизация жизненных сил человека, раскрепощение его творческого, созидательного потенциала. Среди основных форм эстетотерапии исполь- зуется свето- и цветотерапия, звукотерапия, ароматерапия, арттерапия, изотерапия, библиотерапия, сказкотерапия, хореотерапия, драматерапия, музыкотерапия и пр.
Ключевым направлением в реформировании системы психологического сервиса должно стать создание лечебно-реабилитационных центров оказания помощи лицам, подвергшимся психологическому стрессу, жертвам насилия. Здесь весьма важно преодоление межведомственной разобщенности, формирование региональных и межтерриториальных инфраструктур, обеспечивающих единство общегосударственных и местных интересов. Нравственное перевоспитание может являться центральным звеном в общей системе коррекции личностных девиаций. По И. Бентаму, роль нравственности – достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Движение этой всеобъемлющей концепции приобретает несомненное региональное значение в направлении «от возможного к реальному». Жителями восточной зоны страны оно достигается за счет успешной реализации желаемого и возможного на уровне действительно реального при проведении строгого научного анализа специфики условий конкретных областей, краев и республик Сибири и Дальнего Востока2.
Главный редактор В. Я. Семке