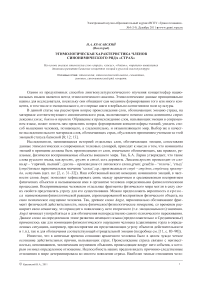Этимологическая характеристика членов синонимического ряда «страх»
Автор: Красавский Николай Алексеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Вопросы лексической и грамматической семантики
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа этимологии слов «страх», «ужас», «боязнь», трепет выявляется динамика развития базисных концептов эмоций в русской лингвокультуре.
Этимология, этимологический анализ, семантика, синоним, синонимический ряд, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14821696
IDR: 14821696
Текст научной статьи Этимологическая характеристика членов синонимического ряда «страх»
Одним из продуктивных способов лингвокультурологического изучения концептосфер национальных языков является метод этимологического анализа. Этимологические данные принципиально важны для исследователя, поскольку они обнажают сам механизм формирования того или иного концепта, в том числе и эмоционального, его первые шаги в вербально-когнитивном поле культуры.
В данной статье мы рассмотрим вопрос происхождения слов, обозначающих эмоцию страха, на материале соответствующего синонимического ряда, включающего помимо слова-доминанты страх лексемы ужас , боязнь и трепет. Обращение к происхождению слов, называющих эмоции в современном языке, может помочь нам прояснить вопрос формирования концептосферы эмоций, увидеть способ мышления человека, познающего, а следовательно, и оязыковляющего мир. Выбор же в качестве исследовательского материала слов, обозначающих страх, обусловлен признанием учеными за этой эмоцией статуса базисной [8; 12; 13].
Исследователи, занимающиеся историей отдельных слов, обозначающих эмоции, сопоставляя данные этимологических и современных толковых словарей, приходят к мысли о том, что номинанты эмоций в принципе должны быть производными от слов, изначально обозначающих, как правило, реальные, физически воспринимаемые объекты внешнего мира. Так, Б.А. Ларин утверждает, что такие слова русского языка, как ярость , грусть и стыд , есть дериваты. Лексема ярость происходит от слова яр – ‘горячий, пылкий’; грусть – производное от литовского слова grusti, grudziu – ‘толочь’, ‘стыд’ ( студ ) имело первоначальное значение ‘холод’; ср.: производные от студ – студень, студенец, простуда, остудить (цит. по: [2, с. 31–32]). Наш собственный анализ немецких номинантов эмоций, в частности слова Angst, позволяет зафиксировать связь между архаичным и средневековым восприятием физических объектов и вызываемыми ими в организме человека определенными физиологическими процессами. Воспринимаемые человеком отдельные фрагменты физического мира могли в силу своих свойств представлять угрозу для его существования. Можно предположить вероятность переноса наименования физиологической реакции, спровоцированной восприятием физического объекта, на само психическое ощущение человека. Так, древнее слово Angst , первоначально обозначавшее фрагмент физической действительности, некое физическое/физиологическое измерение, со временем расширяет свою семантику, что приводит к появлению у него вторичного (т.е. эмоционального) значения. Angst начинает употребляться и для обозначения непосредственно самого психического переживания. Данное слово на определенном этапе развития немецкого языка (предположительно в Средневековье) применялось как для номинации физиологического ощущения человека (сдавливание горла в определенных ситуациях, например, при восприятии им представляющих угрозу объектов действительности и т.п.), так и для обозначения соответствующей отрицательной эмоции (подробнее см. [11, с. 83–90]).
Известно, что в античные времена сознанию архаичного человека было в целом чуждо четкое осознание действительных причин, вызывающих страх. Происхождение страха связано с неизвестностью, непониманием, человеческим неумением объяснить происходящие вокруг него события, к которым он имел определенное отношение. Неспособность наших предков видеть причинно-следственные отношения в мире детерминировала во многом появление страха. Наиболее тесные отношения чело- века с природой были характерны для эпохи варварства [7]. Зависимость людей того времени от природных явлений четко проявляется в культуре, тех образах, которые создавались народным творчеством. Ряд лингвистов, культурологов, этнографов [5, с. 85–112; 6 и др.], подвергнув филологическому анализу древнюю поэзию, отмечают, что в ней было традиционным уподобление частей человеческого тела феноменам неживой природы и, наоборот, органический и неорганический миры обозначались через части тела. Так, голову обозначали «небом», пальцы – «ветвями», воду – «кровью земли», траву и лес – «волосами земли». «Прежде чем стать условными метафорами, эти уподобления отражали такое понимание мира, при котором отсутствовала четкая противоположность между человеческим телом и остальным миром и переходы от одного к другому представлялись текучими и неопределенными», – пишет А.Я. Гуревич [6, с. 40–41].
Средневековое творчество (как вербальное – поэзия, например, так и невербальное – сохранившиеся, к примеру, фрески) изображало природу как живую, активно действующую силу. Она либо анимировалась, либо фетишировалась: солнце, луна, горы, реки, звери, птицы, боги, злые духи и добрые ангелы виделись в то время человеку как некий единый, целостный мир. Он же, человек, – обычный его представитель – стремился выжить в этом мире, не нарушить его законов. Природные стихии, в которых оказывался как архаичный, так впоследствии и средневековой человек, несли в себе угрозу для его жизни. Историкам хорошо известны сохранившиеся в рукописях описания страха, вызванного действием сверхъестественных сил. Во времена язычества люди свято верили в то, что все беды, их постигающие, были непременно ниспосланы сверху тем или иным божеством. Реальное и вербальное поведение мифологического, в особенности религиозного, средневекового человека определялось страхом наказания.
Этимолого-культурологический анализ русских номинаций эмоций мы проводим по следующим параметрам: 1) время появления в языке самой лексемы (она, как правило, изначально не обозначает эмоцию); 2) время появления у слова значения, фиксирующего эмоцию/эмоции. Русское слово страх служит хорошим языковым примером, убедительно иллюстрирующим появление возможных различий в толковании номинантов концептов эмоций (в зависимости от синхронного или диахронического взгляда на них). Так, в словарной статье «Метонимия», опубликованной в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» Н.Д. Арутюновой, отмечается перенос наименования данной эмоции на причину ее возникновения – «ужасное событие» [1, с. 300]. Н.Д. Арутюнова, как мы можем судить, указала на вторичную номинацию (метонимию) рассматриваемой лексемы, воспользовавшись ее современной словарной дефиницией: «Страх – 1. Очень сильный испуг, сильная боязнь; 2. мн. События, предметы, вызывающие чувство боязни, ужаса; 3. в знач. сказ. и нареч. Очень, в высшей степени, очень много, ужас (курсив наш. – Н.К.)» [15, с. 761]. Если исходить из предложенной здесь дефиниции, т.е. учитывать последовательность перечисления значений слова страх, то действительно имеет место перенос наименования чувства на провоцирующую его переживание ситуацию. Если же рассматривать данное слово с точки зрения диахронии, т.е. обратиться, в частности, к его этимологии, то картина будет несколько иной. Есть три основные версии объяснения происхождения слова страх [16, т. 3, с. 772]. В соответствии с первой это слово вначале номинировало определенную угнетающе действующую на психику человека ситуацию (лат. strages – «опустошение, поражение, повержение на землю»). Получается, что имеет место метонимия не страха как номинанта эмоции, а наоборот, наименование конкретной неблагоприятной для человека ситуации переносится на его ощущения. Если же принять вторую версию происхождения слова страх, согласно которой оно первоначально коррелировало с вербальным актом угрозы одного человека другому (ср. с лтш. struostit – «угрожать, строго предупреждать»), то в этом случае опять же метонимизируется определенный речевой поступок, но не номинант эмоции. Если принять во внимание третью версию происхождения слова страх, то можно заключить, что осуществляется перенос с наименования физических действий человека на его внутренние переживания (форма *treso – «трясти») (Там же, с. 722). Кстати, попутно укажем на возможный культурно-язы- ковой реликт – устойчивое выражение в русском языке – трястись от страха. Видимо, значение эмоции у слова страх не первично, поскольку многие версии этимологического анализа обнаруживают у него первичность «физического» значения.
Рассматриваемое слово, по данным И.И. Срезневского, уже в XI–XIV вв. имело два значения: оно применялось для обозначения эмоционального состояния человека и номинации вызывающего его явления, события [14, т. 3, ч. 1, с. 546]. Сегодня оно представляет собой полисемичную лексическую единицу.
Далее сделаем самые общие замечания о полисемии знаков, один из лексико-семантических вариантов которых корреспондирует с эмоциональной концептосферой. Мышление архаичного и в значительной степени еще средневекового человека (см. напр. [17, p. 8–9]) не было в состоянии четко дифференцировать понятия причины и следствия, внешнего и внутреннего. Они ему представлялись в силу недостаточности развития абстрактного мышления в форме содержательно единого, целостного, нерасчлененного процесса. Данный вывод опирается на известную научно обоснованную концепцию изначальной, первичной предметности человеческого мышления: обозначение реальных объектов материально воспринимаемого мира, как правило, предшествует наименованиям абстрактным. Абстрактные понятия формируются по мере освоения человеком окружающего его мира, по мере социализации Homo sapiens. Иначе говоря, мышление развивается по формуле «от конкретно-предметного к обще-абстрактному». В этой связи любопытны результаты фактических наблюдений некоторых лингвистов-этнографов, изучавших в относительно недавнем прошлом (середина XX в.) язык и психологию носителей сохранившихся древних культур Океании. В данных культурах, по мнению К. Лутц, слова, обозначающие эмоции, рассматриваются носителями языка, в частности языка инфалук, скорее « как сообщения о связи лица и события (в особенности, затрагивающие другое лицо), чем сообщение об интроспекции своих собственных состояний (курсив наш. – Н.К. )» (цит. по: [4, с. 389–390]).
Далее обратимся к этимологии синонимов слова страх – ужас , боязнь , трепет. При рассмотрении русского слова ужас (др.-рус. форма ужасъ, ужасть ) М. Фасмер [16, т. 4, с. 151] указывает на трудности установления его происхождения. По мнению ученого, оно, вероятно, связано чередованием гласных с * gasiti (гасить); лит. gesti , gestu (гаснуть, кончаться). Кроме того, высказывается суждение о его возможном родстве с лит. issigasti (испугаться). По данным же А. Мейе, это русское слово генетически связано с готским глаголом usgaisjan (пугать), usgeisnan (изумляться, приходить в ужас) (Там же, т. 4, с. 151). Данное объяснение, однако, многими этимологами (например, М. Фасмером), не признается правильным ввиду существенных вокальных различий между сравниваемыми формами. Анализируемое слово этимологически корреспондирует со многими славянскими словами: укр. ужас , ужах (страх, ужас), ужахнути (напугать), блр. ужаслiвы (страшный), ст.-слав. ужасъ, цслав. жасити (пугать), пръжасъ (ужас, неистовство), болг. ужас , чеш. úžas (изумление, ужас), польск. przeżasnąć się (поразиться, ужаснуться). Если следовать версии происхождения данного слова, предложенной М. Фас-мером, то очевидна корреляция слова ужас с архетипом огня, являющегося, по мнению ряда исследователей [3, с. 6–7; 9, с. 41–42], наиболее актуальным социально-культурным феноменом для архаичного и средневекового сознания людей.
В XI–XIV вв. слово ужас в русском языке употребляется в следующих значениях: «ужасть – страхъ, ужасъ. – Трепетъ, дрожь. – Дрожь. – Трусость. – Изступленiе. – Изумленiе. – Страшное явле-нiе» [14, т. 3, ч. 2, с. 1161]; «ужасъ – Страхъ. – Трепетъ. – Смятенiе, отчаянiе. – Изступленiе» (Там же). Многие из них сохранились до наших дней. В современном русском языке данное слово является полисемантом. Оно обозначает само чувство; явление, его вызывающее; безвыходность положения; наконец, используется как эмоциональный интенсификатор в разговорной речи.
Номинант эмоции боязнь является дериватом глагола бояться. Оба слова славянского происхождения. Аналогичны слову боязнь по морфологической структуре и семантике слова ст.-слав. боязнь, чеш. bazen, bojazn. Его глагольная форма обнаружена не только в славянских (болг. боя се, слов. bojati se, чеш. báti se), но и в других языках – лит. bajus (страшный), bаaime (страх), др.-инд. bhаayte, bibheti, авест. bayente (страшить, пугать), др.-верх.-нем. biben (дрожать, трепетать). Утверждается, что это слово этимологически связано с прус. biasnan (страх) [16, т. 1, с. 203–204]. В современном русском языке слово боязнь моносемично.
Слово трепет относится (в терминологии М. Фасмера) к так называемым «трудным словам» с точки зрения их этимологии. С уверенностью можно только утверждать, что значение эмоции у этого полисеманта вторично. Изначально им обозначались физические величины. Данное слово славянского происхождения (ср.: ст.-слав. трепетъ ; укр. трепет , трепета (осина), болг. трепет , словен. trepet ). От этого слова произошли рус. трепетать , ст.-слав. трепетати , чеш. trepetati (трепетать, порхать). Часто его этимологически и семантически сближают со словами трепать , тропать (ср. лит. trepumas – «проворство, ловкость», trepidus – «семенящий» с лтш. tripinat – «трясти» (Там же, т, 4, с. 99). Отмеченные генетические и семантические связи русского полисемичного слова подтверждаются значениями, которыми оно обладает в современном языке: «Трепет – 1. Колебание, дрожание (трепет листьев); 2. Сильное волнение, напряженность чувств (трепет восторга); 3.Страх, боязнь» [15, с. 798].
Подведем итоги изложенному выше. Архаичное и в значительной степени средневековое языковое сознание по своему характеру синкретично: изначально в языке не существует четкого различения психических переживаний и реальных фактов жизни общества. Одним и тем же языковым знаком обозначаются а) эмоциогенная ситуация, б) причина ее возникновения, в) сама эмоция, г) последствия ее переживания. Данные диффузные номинации во времени семантически трансформируются, как правило, посредством сужения или специализации соответствующих знаков, что обусловлено эволюционной познавательной деятельностью человека.
Современная эмоциональная концептосфера, как показывает наше исследование [10], знаково оформлена преимущественно вторичной номинацией – метафорой и метонимией, что объясняется, с одной стороны, малым количеством прямых обозначений психического мира человека в любом языке, а с другой – архетипностью познавательной деятельности человека. Непрямые номинации эмоций – это процесс и результат оценочного переосмысления уже существующих языковых реалий. В основе современных обозначений эмоций лежат переносы наименований реальных фрагментов мира (физиологические реакции организма человека, физические действия человека, явления природы) на психическую деятельность человека.
Список литературы Этимологическая характеристика членов синонимического ряда «страх»
- Арутюнова Н.Д. Метонимия//Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 300
- Безруков В.И. Эмоционально-экспрессивный фактор и лексическое значение//Вопросы лексикологии: сб. науч. ст. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1969. С. 30-35
- Белякова Г.С. Славянская мифология. М.: Просвещение, 1995
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1997
- Веселовский А.Н. Язык поэзии и язык прозы//Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 85-112
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972
- Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (exempla XIII век). М.: Искусство, 1989
- Изард К. Психология эмоций. СПб. -М. -Харьков -Минск: Изд-во «Питер», 1999
- Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология//Мифы древних славян. Саратов: Изд-во «Надежда», 1993. С. 41-86
- Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: моногр. М.: Гнозис, 2008
- Красавский Н.А. Этимологический анализ синонимического ряда «страх» (на материале немецкого языка)//Когнитивные аспекты языковой категоризации: сб. науч. тр. Рязань: Изд-во РГПУ, 2000. С. 83-90
- Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998
- Риман Ф. Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии. М.: Алетейа, 1998
- Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: в 3 т. М.: Книга, 1989
- Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1995
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 3-е изд., стер. СПб.: Терра, 1996
- Carruthers M. The book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge, Cambridge University Press, 1994