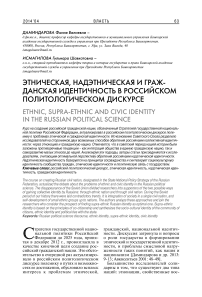Этническая, надэтническая и гражданская идентичность в российском политологическом дискурсе
Автор: Даминдарова Фания Валиевна, Исмагилова Гульнара Шавкатовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Курс на создание российской гражданской нации, обозначенный Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации, актуализировал в российском политологическом дискурсе полемику о проблемах этнической и гражданской идентичности. Исчезновение Советского Союза разделило исследователей на сторонников двух возможных способов обретения россиянами коллективной идентичности: через этнонацию и гражданскую нацию. Отмечается, что в советский период нашей истории были заложены противоречивые тенденции - как интеграция общества в единую гражданскую нацию, так и саморазвитие малых этносов до наций. Анализируя эти подходы, авторы статьи присоединяются к исследователям, считающим оптимальной перспективу обретения россиянами надэтнической идентичности. Надэтническая идентичность базируется на принципах согражданства и синтезирует социокультурную идентичность сообщества граждан, этнические идентичности и политическую связь с государством.
Российский политологический дискурс, этническая идентичность, надэтническая идентичность, гражданская идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167439
IDR: 170167439
Текст научной статьи Этническая, надэтническая и гражданская идентичность в российском политологическом дискурсе
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, принятая в декабре 2012 г., провозгласила в качестве конечной цели создание российской гражданской нации. Это обстоятельство в очередной раз актуализировало в российском политологическом дискурсе полемику о путях и возможностях ее достижения, обусловило всплеск интереса к проблемам этнической, гражданской, национальной идентичности. Дискуссия затронула и вопросы о роли государства в формировании этнической и государственной идентичности, и проблемы смысловой нагру-женности таких понятий, как нация и национализм [Даминдарова и др. 2013: 9-13; Авквсентьев 2001: 48-49].
Большинство исследователей солидарны в том, что существуют два типа наций: этнонации, свойственные вос- точноевропейскому и в значительной степени азиатскому миру, и нации-согражданства, свойственные англороманскому миру. В то же время эти различия не абсолютны, и указанные типы представляют своего рода идеальную модель. Именно поэтому необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, анализ современного национализма и многонациональных государств должен отталкиваться от понимания роли и форм этнической идентичности; во-вторых, невозможно сформировать адекватное представление о нации без учета роли государственности в ее становлении и развитии. Государственность «обеспечивает “смычку” между двумя концепциями нации и объясняет их зачастую противоречивый симбиоз в одних и тех же культурах» [Авксентьев 2001: 48-49].
Распад одного из крупнейших государств ХХ в. – Советского Союза – инициировал очередной пересмотр вопроса о судьбе народов, привнес новое понимание в определение нации и национальности [Дорожкин, Фролова 2011: 11-12]. Напомним, что советское понятие национальности, закрепленное в Конституции 1936 г., стало приобретать значимость с 1926 г., когда оно было внесено в опросный лист I Всесоюзной переписи населения. Тогда впервые каждый житель СССР был обязан идентифицировать себя с той или иной национальностью/народ-ностью. Введение в 1932 г. паспортной системы с соответствующей графой окончательно сформировало советское понимание национальности. Если первоначально гражданин мог указывать в графе «национальность» ту, к которой он сам себя относил, т.е. фактически речь шла об идентификации с тем или иным народом, то уже с конца 30-х гг. национальность стала пониматься почти исключительно как родство по крови. При этом, как справедливо подчеркивает С.Е. Рыбаков, советская политика в отношении национальностей была амбивалентной и внутренне противоречивой: с одной стороны, существовала официальная доктрина «дружбы народов», с другой – среди малых народов руками властей взращивался латентный этнический национализм. Руководство СССР пыталось целенаправленно раз- вивать сразу две противоположные тенденции – фактическую интеграцию общества в гражданскую нацию («единый советский народ») и саморазвитие малых этносов до наций, включая создание союзных и автономных республик. В результате национальный вопрос разрушил изначально полиэтничный Советский Союз: страна превратилась в многонациональное государство [Рыбаков 2001: 311-315]. Это привело к росту этнической деструктивности, которая выплеснулась в начале 90-х гг. ХХ в. в виде «парада суверенитетов». С ним был логически и хронологически связан так называемый этнический ренессанс, который проявился, прежде всего, в актуализации проблемы состояния языка, культуры, традиций этносов на постсоветском пространстве.
С исчезновением советской идентичности произошло понижение ее структурирования до уровня локального этнически гомогенного сообщества. Действовавшие на постсоветском пространстве многочисленные этнические движения сосредоточили свои усилия именно на этнополитической сфере, непосредственным образом влиявшей на интересы тех, кого они представляли. Обретшие суверенитет этнополитические образования оказались в ситуации острого дефицита легитимации; его преодоление стали искать в интенсивном конструировании идентичностей как на групповом, так и на индивидуальном уровне [Попов 2008: 82-93]. Выбор традиций этнической идентичности и культурных стереотипов этничности превратил постсоветское социокультурное пространство в арену противоборства различных социальных групп за влияние на коллективное и индивидуальное мышление. Стала разворачиваться борьба вокруг системы приоритетов, определяющих характер и стиль государственной идеологии. Однако лозунг: «Берите суверенитета столько, сколько хотите!» столкнулся с конкретными реалиями: на постсоветском пространстве проживает свыше 120 народов, и создание каждым из них национального государства на основе идеологии этнонационализма чревато гражданской войной.
Тем не менее можно согласиться с Р.Р. Вахитовым в том, что подобное
«этническое пробуждение» – закономерная предпосылка дальнейшей эволюции этнического национализма в гражданский. Действительно, западные нации стали гражданскими, потому что ранее они были этническими. Гражданской нацией является сообщество людей, объединенных не единым происхождением, а единым гражданством, принадлежностью к одному и тому же государству, а также добровольной приверженностью к системе ценностей и культуре, которая ассоциируется с этим государством. Однако культурные ценности нации вырабатываются в эпоху этнического национализма и принадлежат определенной этнонации [Вахитов 2012: 66-67].
Не случайно Р.Г. Абдулатипов выступает за признание культурно-языковой сущности различных этносов, но русская нация приобретает статус российской, постепенно интегрируя все полиэтническое население. «При этом новое качество приобретают все этнонациональности – русские, татары, аварцы, украинцы, башкиры и другие… По качественным и количественным признакам идентичности роль и миссия в российской общности могут быть различными, но на уровне личности качественные и количественные признаки должны охраняться едиными стандартами прав и свобод человека, его свободной связью со всей этнонациональностью, как и гражданской, политической нацией» [Абдулатипов 2004: 7-8].
Напомним, что единственный из крупных этносов, которому в СССР было отказано в процедуре создания «своей» нации, был русский. И сделано это было глубоко осознанно и теоретически обоснованно [Неменский 2010]. Этнически русские люди составили в грандиозном здании советской страны своего рода связующий материал для создаваемых кирпичиков-наций, которым в свою очередь был предоставлен максимум национальных прав. Так и РСФСР оказалась единственной ненациональной союзной республикой, которая даже внутри себя, имея немало национальных автономий, не допускала какого-либо подобия форм русской нации, что во многом унаследовано и современной Российской Федерацией. В конечном счете, русский народ самоопределялся в «дружбе с другими народами», а не в политической субъектности.
Именно поэтому и сегодня проблема русского населения в национальных республиках – это серьезный фактор, от которого зависит обеспечение межэтнического согласия и перспектив дальнейшего регионального и общенационального развития. Русское население играет ключевую роль в социальноэкономической и общественнополитической сферах данных регионов. Помимо вклада в единую экономику и хозяйственное управление, образование и культуру, русские жители республик способствуют осознанию представителями других народов своей общероссийской идентичности.
В отличие от Р.Г. Абдулатипова, политолог С.И. Каспэ, склонный рассматривать нацию, прежде всего, как политически интегрированное сообщество, заявляет, что «российская политическая нация не существует или, по крайней мере, весьма далека от устойчиво консолидированного состояния» [Каспэ 2012: 7-8]. Тем не менее вектор такого развития прослеживается. Не случайно В.А. Тишков, обосновывая тезис о нации как согражданстве, приходит к заключению, что нация в России представляет собой сложившуюся социокультурную целостность. Для ее реализации необходимо посредством демократического правового сознания и иных гражданских норм превратить культурную нацию в политическую. Опираясь на эту позицию, В.А. Тишков доказывает, что гражданское понимание нации не означает редукцию национальной общности к формально-юридической. Объективное существование российской нации предполагает формирование национального самосознания с целью легализации российской государственности. При исследовании национального вопроса ученый акцентирует внимание на том, что гражданская идентификация должна вырабатываться только на политических процедурах [Тишков 1998: 24-34].
В то же время, справедливо подчеркивает О.В. Дроздова, реализовать гражданскую концепцию нации в России проблематично по нескольким причинам. Общеизвестно, что гражданская нация складывается при добровольном согласии людей придерживаться определенных взглядов, основанных на демократических принципах и нормах. Такое общество представляет собой сферу самопроявления автономных индивидов, которые на общих социокультурных ценностях создают механизмы негосударственного общественного контроля, в ходе чего возникает солидарность и стабильность. В настоящее время в России отсутствуют объективные предпосылки для развития гражданского общества. Если в советский период существовал государственный «заказ» на участие в общественной жизни как важное условие профессиональной самоорганизации, то в современной политической системе гражданская активность остается невостребованной [Дроздова 2009: 101-104].
На наш взгляд, снятие противоречия между двумя антиномиями политологического дискурса возможно на основе обращения к концепции надэтнической идентичности, которая развивается в трудах таких исследователей, как В.А. Авксентьев, М.Е. Попов. Сущность надэтнической идентичности заключается в присутствии, с одной стороны, трансиндивидуальной культуры, гражданских ценностей, консолидирующих социум идей; с другой – этничности, т.е. этнической идентичности, благодаря которой происходит квалификация того или иного человека как представителя этнической культуры и традиций. В терминологическом отношении понятие «надэтническая идентичность» имеет некоторые аналогии в отечественном и западном обществоведении, но понятие надэтнической идентичности обладает более широким социокультурным контекстом.
М.Е. Попов считает, что несоответствие современных социокультурных и политических процессов прежним советским интерпретационным системам и идентификационным типам формирует в сознании россиян стремление к коллективистской надэтнической идентичности и тяготение к советскому прошлому. На наш взгляд, актуализация «советскости» в современном российском обществе во многом объясняется тем, что советское самосознание, бывшее базой советской социокультурной системы, имело генетическую общность с духовно-нравственной традицией рос- сиян, потребность в возрождении которой они остро ощущают в последние десятилетия. «Социалистические нормы поведения» как концентрированное выражение социально значимых потребностей, интересов, склонностей и предпочтений осваивались советским человеком в ходе усвоения элементов советской культуры и коммунистической идеологии. В этом процессе происходило слияние системы ценностно-нормативных стандартов поведения (макросоциальная надэтническая идентичность) с индивидуальной мотивацией советского человека (персональная идентичность). «Чтобы он смог сохранить доверие к тому, что он думает о самом себе, каков он есть, – пишут П. Бергер и Т. Лукман, – индивиду требуется не только имплицитное подтверждение этой идентичности, приносимое даже случайными ежедневными контактами, но эксплицитным и эмоционально заряженным подтверждением от значимых других» [Бергер, Лукман 1995: 244].
Мы исходим из того, что российская надэтническая идентичность должна поддерживать идею этнокультурного многообразия России через развитие не только общегражданской культуры, но и поликультурности, т.к. только в многообразии этнических и религиозных традиций, социального и культурного опыта, мировоззрений заключена конструктивная сила российского общества. «Национализму нужно противопоставить универсализм, – отмечал Н.А. Бердяев, – который совсем не отрицает национальных индивидуализаций, а объемлет их в конкретном единстве. Универсализм есть утверждение богатства в жизни национальной» [Бердяев 2003: 653]. Необходимость формирования надэтнической общегражданской идентичности в современной России актуализируется тем, что процесс модернизации российского общества может осуществляться более эффективно, если общество будет учитывать характерные для российской полиэтничной культуры процессы и тенденции, советский социокультурный опыт.
С нашей точки зрения (и эти идеи получили отражение в диссертационном исследовании Ф.В. Даминдаровой [Даминдарова 2011]), формирование нации-государства сограждан полиэтничной страны – наиболее трудная задача для российского социума в его становлении в качестве гражданского общества. Надэтническая идентичность, с одной стороны, синтезирует социокультурную идентичность сообщества граждан, этнические идентичности и политическую связь с государством, базируясь на принципах согражданства; с другой – структурирует посредством геополитики общенациональную идентичность в мировое сообщество. Она представляет собой структуру самосознания, соединяющую субъективно осознаваемые и переживаемые общечеловеческие ценности, государственные и общекультурные символы, социальнополитические установки, гражданские отношения, оценки и нормы надэтнической общности.
Надэтническая идентичность в современной России может сформироваться на тех аутентичных основах, которые сложились в ходе совместного исторического развития населяющих ее народов. При этом не надо забывать о том, что надэтническая общность – это не только понятие, но и феномен. Реальные условия и предпосылки для консолидации единой надэтнической общности россиян содержатся уже в многовековой истории совместного проживания российских этносов.