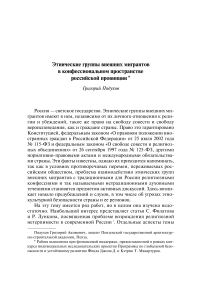Этнические группы внешних мигрантов в конфессиональном пространстве российской провинции
Автор: Пядухов Григорий Акимович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Общение
Статья в выпуске: 4, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911819
IDR: 14911819
Текст статьи Этнические группы внешних мигрантов в конфессиональном пространстве российской провинции
затронуты в книге «Религия и государство в современной России» 2, сборнике статей по этноконфессиональной самобытности в постсоветском обществе 3, в материалах конференции о современных этнополитических процессах и миграционной ситуации в Центральной Азии 4, публикациях С. Панарина 5 и Г. Витковской 6.
Попытаемся обозначить некоторые подходы к исследованию проблемы, взяв за основу опыт трех российских регионов в 1996–2002 годах: Республики Мордовии, Пензенской области и Саратовской области. Источниковую базу исследования составили результаты анкетного опроса, проведенного в рамках проекта «Этнические группы мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья в российской провинции: стратегии поведения на фоне “мифов” об угрозах региональной безопасности». Опрос проводился методом случайной выборки, охватившей 200 внешних мигрантов (120 из стран СНГ, 80 — из государств дальнего зарубежья), 50 экспертов и 50 представителей местного населения в каждом из трех субъектов федерации. В Мордовии он был проведен в ноябре-декабре 2001 года, в Пензенской области — в сентябре-октябре 2001 года и в Саратовской — в январе-феврале 2002 года. Представленные в табл. 1 данные о количестве религиозных организаций получены в управлениях Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовии, Пензенской и Саратовской областям. Важным источником информации стали публикации региональной прессы, а также беседы автора с мигрантами и местными жителями.
Этнические группы мигрантов и религиозные организации
Для всех трех регионов типична общая для России атмосфера религиозной терпимости, остающейся стабильной, несмотря на отдельные коллизии. Правда, вслед за террористическими актами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне предпринимались попытки разжечь исламофобские настроения. Однако эти попытки были дезавуированы как федеральным центром, так и региональными властями. Уже 3 ноября 2001 года в Саратове была проведена (и положительно встречена общественностью) областная научнопрактическая конференции «Ислам — религия мира», организованная правительством Саратовской области и Духовным управлением мусульман Поволжья 7. Глава Республики Мордовии Н. И. Меркушкин, губернаторы Пензенской области В. К. Бочкарев и Саратов- ской — Д. Ф. Аяцков, как и главные федеральные инспекторы этих трех субъектов Российской Федерации А. М. Пыков, В. В. Фомин и Р. Ш. Халиков неоднократно встречались с представителями конфессий, общественностью и журналистами, подчеркивая недопустимость антимусульманских выпадов.
Тем не менее указание лишь на позитивные стороны существующей в России атмосферы в области межрелигиозных отношений способно исказить реальную картину. С. Филатов и Р. Лункин отмечают, что с конца 1990-х годов в России наблюдается развитие тенденции религиозной нетерпимости: в сознании населения обостряются фобии, связанные с комплексом «чужой веры», появление иноверцев воспринимается подчас как агрессия по отношению к традиционным духовным ценностям 8.
Одна из наиболее распространенных в обыденном сознании фобий связана с тем, что иностранцы, в частности внешние мигранты, будто бы распространяют несвойственные местному населению религиозные взгляды. Эта точка зрения встречается не только на бытовом уровне, порой она озвучивается и в средствах массовой информации 9. Но результаты опросов ее не потверждают, фобии влияют далеко не на основную часть респондентов. Считают, что иностранцы «распространяют несвойственную нам религию» только 22% респондентов из числа местного населения в Мордовии, 19% — в Пензенской области и 10% — в Саратовской.
Позиции респондентов существенно корректируются в зависимости от рода их деятельности. Среди экспертов Мордовии 75% преподавателей вузов, 75% работников районных администраций, 40% работников городской администрации, 37% сотрудников правоохранительных органов склоняются к тому, что иностранцы «распространяют чуждую религию». В Пензенской области подобной точки зрения придерживаются половина опрошенных преподавателей вузов, 30% работников областной администрации и каждый четвертый сотрудник правоохранительных органов. В Саратовской же области — 43% преподавателей и каждый четвертый работник областной администрации и правоохранительных органов. Среди местного населения Мордовии эта точка зрения господствует у двух третей респондентов, работающих в сельском хозяйстве, она свойственна каждому второму журналисту, а также 22% рабочих и каждому пятому респонденту, представляющему преподавателей и студентов высших учебных заведений. В Пензенской области считают, что иностранцы «распространяют чуждую религию», каждый второй респондент, работающий в сельском хозяйстве, 26% студентов и 9% работников здравоохранения, в Саратовской соответствующие показатели колеблются от 20% у опрошенных работников здравоохранения до 14% у преподавателей и 12% среди рабочих.
Как видим, уровень опасений чаще оказывается выше у тех, кто по роду своей деятельности общается с самым широким кругом людей и одновременно обладает возможностями создания микро-информационных полей с заданным содержанием. Эти люди и социальные группы, в которые они входят, — своего рода неформальные центры влияния на общественное мнение.
Вряд ли обоснованно связывать со всеми внешними мигрантами «грех» распространения религиозных взглядов, не свойственных населению трех обследованных субъектов Российской Федерации. Подавляющему большинству мигрантов не до того: они заняты реализацией своих коммерческих и иных целей, не связанных с религией. Кем же и почему этот грех им все-таки приписывается?
В какой-то мере слухи о всевозможных угрозах традиционным религиям со стороны иностранцев — продукт целенаправленной деятельности отдельных ревностных представителей «угрожаемых» религий, усматривающих в иностранцах реальную опасность для существующих традиций духовной жизни местного населения 10. Так же высока вероятность, что эти слухи создаются и транслируются небольшой маргинализированной частью русскоязычных беженцев и вынужденных переселенцев. В Россию они прибыли из стран СНГ, а оттуда были вынуждены выехать под давлением разных форм дискриминации. Поэтому они обостренно реагируют на присутствие мигрантов — представителей титульных наций этих стран: ведут себя спокойно, когда мигранты незаметны и вежливы, и быстро приходят в негодование от вызывающего (в кавычках и без) поведения мигрантов, превращаясь тогда в активных проводников ксенофобии, а то и в инициаторов недоброжелательного или агрессивного отношения к «чужакам».
Основная же часть бывших вынужденных переселенцев и беженцев достаточно равнодушно реагирует на внешних мигрантов. Можно, однако, не сомневаться, что в их подсознании жив обостренный трансфер-образ прошлых обид, персонифицируемый в наиболее раздражающих своим поведением представителях титульных народов конкретных стран СНГ. При определенных обстоятельствах этот затаенный образ может оживать, провоцировать отрицательные эмоции, способные, в свою очередь, превращаться в разрушитель- ную силу агрессивной ксенофобии и радикального национал-экс-тремизма.
Вместе с тем невозможно отрицать факт распространения новых, нетрадиционных для России религиозных течений. Однако обусловлено это не столько притоком мигрантов из других стран, сколько внутренними причинами, из которых следует выделить две основополагающие. Во-первых, радикальные изменения жизни российского общества, разрушение предшествующей системы ценностей и противоречивое становление новой общественно-экономической системы не могли не вызвать и сопутствующих изменений в духовной жизни и религиозном сознании населения. Во-вторых, под влиянием этих изменений сформировались и продолжают формироваться потребности различных социальных групп в новых религиозных взглядах, убеждениях и религиозных организациях, способных объяснить происходящее, придать смысл личной жизни и помочь адаптироваться к непрерывно меняющимся жизненным обстоятельствам людям, которых уже не устраивают объяснения, предлагаемые традиционными для России религиями.
Удовлетворение новых потребностей происходит по различным направлениям: через активную миссионерскую деятельность представителей новых религиозных течений, путем создания новых религиозных организаций и посредством подготовки кадров для них как внутри России, так и за ее пределами. Относительно миссионеров вряд ли можно даже приблизительно сказать, каково их количество и каким образом они прибывают в регионы России, какие религиозные организации представляют, с помощью каких методов распространяют нетрадиционные религиозные учения среди местного населения. Для этого нужны специальные исследования. Несомненно, однако, что по времени рост численности нетрадиционных религиозных учений в России действительно увязывается с нарастанием притока мигрантов в страну из других государств, то есть с десятилетием 1992–2001 годов. На «плечах» этого потока в регионы России естественным образом проникают и миссионеры различных религиозных организаций, скорее всего, предстающие перед обывателями в образе рядовых «иностранцев». Видимо, этим в какой-то мере и объясняется формирование мифов о якобы интенсивном влиянии всех мигрантов на духовную жизнь регионов, на «распространение несвойственных местному населению религиозных взглядов». Но если уж говорить об угрозах духовной жизни российского общества, то стоило бы вспомнить мнение Г. А. Михайлова, выска- занное им еще в 1997 году. Он отмечал тогда, что «антипатии и тревога общества, государства, религиозных авторитетов России сегодня адресны и не имеют отношения ко всей новой религиозной волне, как хлынувшей из-за рубежа, так и возникшей на российской почве... Острие всеобщей критики и недовольства основной массы россиян направлены на организации, которые характеризуют тоталитарность, сектантская замкнутость, активное использование методов психологической обработки адептов, позволяющих контролировать их психику и управлять их поведением. Нередко эта деятельность хорошо законспирирована, скрывается под личиной новообразованных и зачастую вполне респектабельных транснациональных религиозных организаций, ведущих широкую работу по созданию разветвленной сети на основе совмещения легальных и нелегальных “форм обращения”» 11.
Преувеличенный масштаб слухов о причастности всех групп этнических мигрантов к распространению нетрадиционных религиозных учений становится особенно очевидным при анализе структуры конфессиональных пространств исследуемых субъектов Российской Федерации (см. табл. 1). Ее анализ показывает, что во всех них устойчиво доминируют две традиционные для России конфессии — православие и ислам. Вряд ли иные конфессиональные объединения способны поколебать их позиции.
В то же время данные в таблице дают серьезный материал для размышлений о различиях в структуре конфессиональных пространств и религиозных организаций. Отчетливо просматриваются три взаимосвязанных явления. Первое — это широкое разнообразие религиозных организаций в целом по трем субъектам РФ, что создает благоприятные возможности для удовлетворения религиозных потребностей разных этнических групп не только местного населения, но и мигрантов. Второе — налицо заметные перепады в численности религиозных организаций с различающимися символами веры. Если в Саратовской области их 27, то в Пензенской — 17, а в Мордовии — всего 9. Кроме того, в Мордовии действует значительно меньше так называемых нетрадиционных религиозных организаций, чем в Пензенской и Саратовской областях. Что же касается последней, то, вероятно, одной из причин широкого представительства в ней самых разных религиозных организаций являются межцивилизационные взаимодействия, обусловленные влиянием интенсивных этнокультурных миграционных потоков из разных стран, пересекающих территорию области. И третье — данные таблицы четко показывают
Таблица 1
|
Наименование конфессий |
Всего зарегистрировано |
||
|
Республика Мордовия |
Пензенская область |
Саратовская область |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Русская православная церковь |
277 |
179 |
150 |
|
Российская православная автономная церковь |
— |
1 |
— |
|
Старообрядцы, всего |
— |
1 |
5 |
|
Русская православная старообрядческая церковь |
— |
— |
1 |
|
Древнеправославная церковь |
— |
1 |
2 |
|
Поморская церковь |
— |
— |
2 |
|
Римско-католическая церковь |
— |
1 |
6 |
|
Ислам |
24 |
50 |
22 |
|
Буддизм |
— |
— |
1 |
|
Иудаизм, всего |
— |
1 |
3 |
|
Ортодоксальный |
— |
1 |
1 |
|
Современный |
— |
277 |
2 |
|
Евангельские христиане-баптисты |
3 |
10 |
9 |
|
Евангельские христиане |
1 |
2 |
1 |
|
Евангельские христиане в духе апостолов |
— |
— |
1 |
|
Христиане веры евангельской — пятидесятники |
3 |
4 |
5 |
Таблица 1 (окончание)
XVIII века считается крещеной и с ее «прибавкой» количество православных здесь вырастет примерно наполовину, в этом случае оно все равно будет заметно меньше, чем в каждой из двух областей.
Иную картину таблица дает в отношении исповедания ислама. В Пензенской области примерно на 44% меньше людей, традиционно исповедующих ислам, чем в Саратовской, но на 50% больше, чем в Мордовии. В начале 2002 года в Пензенской области действовало 50 мусульманских религиозных организаций, что превышает общую численность соответствующих организаций в Саратовской области и в Мордовии и позволяет предполагать высокую активность приверженцев ислама в Пензенской области. В Мордовии же и Саратовской области количество мусульманских религиозных организаций почти одинаковое: соответственно 24 и 22 объединения.
Стратегии взаимодействия этнических групп мигрантов с единоверцами
Значительная часть внешних мигрантов рассматривает возможность конфессионального общения с единоверцами из числа местного населения как дополнительный способ решения различных задач. Для мигрантов, особенно для тех, кто впервые приехал в новую для них иноязычную страну, взаимодействие с местным населением чревато стрессом. Причина его — в нехватке либо отсутствии информации о том, как надо строить это взаимодействие, в недостаточном личном опыте установления необходимых контактов. При недоброжелательном отношении принимающего населения вообще могут создасться предпосылки межгруппового межкультурного конфликта или конфликта ценностей 13. В такой ситуации связи с собратьями по религиозной вере предоставляют мигрантам целый ряд возможностей, способствующих успешной адаптации к условиям временного пребывания на территории субъектов РФ.
Прежде всего, мигранты могут в буквальном смысле слова облегченно вздохнуть, испытав чувство духовного единения с неким коллективом. Контакты с единоверцами помогают мигрантам, опираясь на религию, сохранять этническую идентичность, рождают у них, хотя бы на время, ощущение защищенности, а значит и безопасности. Точно так же, совместное с единоверцами исполнение религиозного ритуала дает мигранту уникальный шанс почувствовать себя, пусть на мгновение, истинно свободным, способным к глубо- ко личностному самоанализу и переживаниям. Это состояние, говоря словами К. Юнга, обусловлено тем, что в основе свободы и автономности индивида «лежат не этические принципы (какими бы возвышенными они ни были) и не убеждения (пусть даже самые твердые), а всего лишь простое эмпирическое осознание, непередаваемое ощущение очень личной, взаимной связи между человеком и внеземной силой, которая действует как противовес “миру” и его “разуму”» 14.
Религиозные организации, вероисповедные символы которых разделяют мигранты, служат своего рода буфером, смягчающим удары жизненных обстоятельств в новой среде, и помогают мигрантам адаптироваться. Высока вероятность того, что здесь действуют пересекающиеся линии интересов: мигранты стремятся наладить контакт с единоверцами, с их религиозными организациями, а последние, в свою очередь, заинтересованы в расширении своей паствы за счет «маятниковых» мигрантов. Эта заинтересованность помогает религиозным организациям более или менее интенсивно распространять информацию о своей деятельности в странах постоянного проживания мигрантов. Выстраивается как бы незримый мостик духовного единства и целостности, взаимной поддержки. Это сильный фактор, позволяющий части мигрантов избежать полной духовной отчужденности и одиночества в новом этносоциальном окружении. Механизм подобного религиозно-духовного единства может затем закрепляться в ходе вовлечения обеих сторон (собратьев по вере) в совместную трудовую деятельность в регионах России и за ее пределами. В итоге в выигрыше остается каждая сторона.
Итак, конфессиональное общение с единоверцами является эффективной стратегией адаптации мигрантов. Однако в действительности, как демонстрируют результаты опроса, многие из них далеко не всегда используют ее на практике.
Здесь показательно отношение мигрантов к исполнению требований религиозной культовой практики. Из общей совокупности участников опроса исповедующими православие указали себя 33%, а ислам — 27%; католиками назвались 15%, буддистами — 4%, баптистами — 1%; 20% воздержались от ответа. На вопрос, посещают ли они во время пребывания в городе (районе) приезда религиозные учреждения (церковь, мечеть, молельный дом), лишь 7% респондентов ответили, что посещают постоянно, 29% — посещают не часто, а 53% — вообще не посещают. Еще 5% респондентов считают, что в этом нет необходимости, а 6% уклонились от ответа.
Если частоту посещений сопоставить с гражданской принадлежностью, то картина выглядит следующим образом. О том, что постоянно посещают религиозные учреждения, заявили 33% граждан США, 21% граждан Польши, 13% — Армении, 11% — Украины и 5% — Германии. Делают это не часто 44% граждан Украины, 43% — Армении, 29% — Китая, 23% — Грузии, 11% — Германии и 6% — граждан Вьетнама. Не посещают религиозные учреждения во время пребывания в регионах России 73% граждан Грузии, по 67% граждан США и Германии, 65% — Вьетнама, 58% — Польши, 48% — Китая, 40% — Украины и 35% — Армении 15.
Факты свидетельствуют о том, что приезжие из дальнего зарубежья и граждане стран СНГ посещают религиозные учреждения с различной степенью интенсивности. Первая группа — более «полярная», она сильнее представлена как среди тех, кто постоянно посещает религиозные учреждения, так и среди тех, кто этого вообще не делает; вторая — более «смазанная». Не исключено, что многие мигранты, особенно с нетрадиционным для России вероисповеданием, просто не имеют возможности посещать соответствующие религиозные учреждения из-за отсутствия таковых по месту приезда либо большой удаленности от него, или же потому, что не знают об их существовании.
Можно привести и факты совсем другого рода. Правда, относятся они к очень специфической категории мигрантов — к иностранцам и лицам без гражданства, осужденным за совершение преступлений на территории России. Они содержатся в единственной в стране специализированной исправительной колонии ИК-22 в поселке Леплей в Мордовии. В 2000 году это учреждение получило большую известность благодаря тому, что на его территории силами осужденных и при финансовой поддержке Ватикана (в 15 тыс. дол. США) был построен небольшой католический храм. В июне 2001 года католическая община в Леплее насчитывала 130 человек. Тогда же храм посетил и провел службу для осужденных глава католической апостольской администратуры юга России епископ Клеменс. Часто туда приезжает и ведет службы отец Филипп — католический священник из Пензы 16. Возможность приобщения к вере благотворно сказывается на общей атмосфере жизни в колонии, на поведении осужденных иностранцев, многие из которых, по словам одного из заключенных, нигерийца Д. Онема, лишь в колонии впервые задумались о спасении души 17. (В июле 2002 года ИК-22 вновь заявила о себе, но уже на ином, спортивном поприще. На открытии чемпио- ната ЖКХ — 385 по футболу сборная иностранцев обыграла сборную 1-й колонии особого режима, составленную из осужденных россиян 18.)
Одной из адаптационных стратегий этнических групп мигрантов является стратегия сопричастности к различным видам благотворительной деятельности, осуществляемой в субъектах РФ религиозными организациями, национально-культурными и иными обществами. Этот процесс имеет немало особенностей, обусловленных тем, что в сфере благотворительности на федеральном, региональном и местном уровнях развиваются различные тенденции 19. Укажем лишь на некоторые из них.
В первую очередь речь идет об этнической сегментации благотворительности. Она становится все более заметной на фоне уже ставших традиционными разнообразных форм адресной благотворительной помощи этническим собратьям со стороны национально-культурных обществ, землячеств, миссий и представительств ряда зарубежных стран.
Далее, местные национально-культурные общества, поддерживая связи с соотечественниками на своей этнической родине и с теми из них, кто приезжает в качестве «маятниковых» мигрантов, стараются в то же время оказывать благотворительную помощь социально уязвимым группам в составе местного населения. Благодаря этому вокруг практикующих такую помощь национально-культурных обществ создается позитивное психологическое пространство, что в какой-то мере улучшает отношение принимающего населения к внешним мигрантам. К примеру, традиционная благотворительная помощь азербайджанской общественной организации «Единство» детскому дому № 1 и детскому саду № 43 г. Пензы получает широкий общественный резонанс, поскольку отражается в местных средствах массовой информации 20.
Наконец, развивается конфессиональная, церковная благотворительность. Повсеместно наблюдается утверждение практики благотворительной помощи социально уязвимым группам со стороны религиозных организаций, представляющих традиционные и нетрадиционные духовные течения. Наиболее наглядно это проявляется во время религиозных праздников. Участвущие в них и в сопутствующих им благотворительных акциях мигранты вступают в живые, непосредственные контакты друг с другом и укрепляют связи со своими единоверцами из числа местного населения.
Мигранты-мусульмане в конфессиональном пространстве российской провинции
В последние годы все большую часть мигрантов, прибывающих в Россию из стран СНГ, а также из государств дальнего зарубежья, образуют лица, исповедующие ислам. Общепризнано, что их приток как-то влияет на ислам в России; но вот суть этого влияния по-разному трактуется и учеными, и политическими партиями, и населением.
Внимание к мигрантам-мусульманам еще больше усилилось на волне всеобщего негодования, прокатившейся по многим странам мира после террористических акций, совершенных исламскими экстремистами 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. В этой связи следует специально остановиться на некоторых особенностях социально-психологической атмосферы, сложившейся в российском обществе под впечатлением действий радикально-экстремистских организаций, апеллирующих к исламу.
Эти особенности формировались под влиянием внешних и внутренних факторов. Среди важнейших внешних факторов — экстремальные события в зарубежных странах (вооруженные конфликты, террористические акты, разные формы насилия), зачинщиками которых выступали и выступают люди и организации, ассоциирующие себя с радикальными течениями в исламе; среди важнейших внутренних — воздействие на общественное сознание военных действий в Чечне, вторжения боевиков в Дагестан, взрывов жилых домов в российских городах, и, наконец, захвата группой чеченских террористов заложников в Москве в конце октября 2002 года.
Обсуждение этих событий на различных уровнях и в разных социальных группах нередко происходит при нехватке объективной и полной информации, в атмосфере социальных стрессов и алармистских настроений. Вольно или невольно, но все это создает условия для роста антиисламских настроений, стихийной психологической стигматизации и той части мусульман из стран СНГ и дальнего зарубежья, которая занимается розничной торговлей на рынках или иной мирной деятельностью на территории РФ. В действие вступает механизм односторонней негативной оценки поведения всех мусульман — выходцев из стран Центральной Азии, с Северного Кавказа и Закавказья, со Среднего и Ближнего Востока. Этому способствуют и ошибки этического и смыслового характера, допускаемые авторами некоторых передач и публикаций центральных и местных средств массовой информации. Речь идет о неточностях, поспешных обобщениях и высказываниях о сущности ислама и его традициях, о недооценке его роли как одной из влиятельнейших мировых религий.
Иными словами, общая социально-психологическая атмосфера, окружающая группы мигрантов-мусульман, очень не простая. Стремление хотя бы на время от нее освободиться составляет для них дополнительную — по сравнению с другими этноконфессиональными группами мигрантов — причину поиска тесных контактов с единоверцами в составе принимающего населения. Для налаживания таких контактов мигранты могут прибегать к разным методам, включая апелляцию к нормативному поведению, основывающемуся на традиционных исламских ценностях, в том числе на ценности солидарности мусульман.
Можно предположить, что эти методы получают в целом сочувственную поддержку среди исповедующих ислам групп российского населения и их элит. Как правило, удельный вес этих групп во всем населении в большинстве субъектов РФ невелик — от 3 до 8% всего населения. Но их относительная малочисленность компенсируется повышенным интересом российских мусульман к вопросам национальной и культурной идентификации, к возрождению традиций духовной жизни 21.
У этого деликатного сюжета есть своя политическая составляющая: все сильнее звучат голоса тех, кто усматривает в нарастающем притоке групп титульных мигрантов из тех стран СНГ, которые в историко-культурном отношении могут быть определены как мусульманские, одно из проявлений объективно развивающейся тенденции к сохранению единого «евразийского пространства» с присущими ему традициями этноконфессионального, экономического и культурного взаимодействия народов.
Например, в программе Евразийской партии России (ЕПР), подчеркивается, что основной целью партии «является содействие легальными политическими средствами развитию многосторонних интеграционных процессов в России и на территории всего постсоветского пространства, становлению на этой основе Евразийского конфедеративного Союза. Партия исходит из того, что центром, ядром такого Союза должно стать экономически сильное, демократическое российское государство, являющееся гарантом социального мира, межнационального согласия, безопасности и взаимовыгодного обмена» 22.
В высказываниях председателя Политического совета ЕПР А.-В. В. Ниязова приоритет партийных задач порой выстраивается иначе. Первой и главной из них Ниязов считает создание условий, необходимых для того, чтобы «облегчить вхождение в политическую жизнь и реализацию гражданской воли для тех россиян, которые выступают за объединение в той или иной форме евразийского пространства и сохранение своеобразия евразийской цивилизации под натиском глобализации». «Частью этой задачи является вовлечение в полноценную политическую жизнь российских мусульман, которые сегодня по ряду причин отнесены в область некой особой “исламской” политики, ограниченной вопросами религии и предупреждения религиозных конфликтов». «Помощь российским мусульманам во всестороннем формировании и выражении своей политической позиции, таким образом, становится очень актуальной, хотя в высшей степени неверно считать, что Евразийская партия — это партия для мусульман. В силу обстоятельств уделяя основное внимание проблемам ислама и мусульман в России, Евразийская партия не ограничивает этим свою деятельность, но и не выдвигает для своих членов (в явной или скрытой форме) религиозность в качестве обязательного условия» 23.
Очевидно, что Ниязовым акцент делается на сотрудничестве структур ЕПР с мусульманскими институтами в России и в странах СНГ, на усилиях по созданию благоприятного режима взаимодействия мусульман с российским обществом. Для другого представителя ЕПР, Н. Ялчинташа, приоритетное значение имеет глобальная исламская солидарность. Он утверждает: «Если мусульмане будут сотрудничать друг с другом в сфере экономики, это приведет к положительному результату... сформируются новые рынки, которые будут соответствовать исламским ценностям... Независимо от места жительства, мусульмане должны применять принцип солидарности по отношению к экономической сфере. Они обязаны отдавать предпочтение в инвестициях, производстве, потреблении, всех других услугах тем, с кем они разделяют одни и те же ценности» 24.
Вернемся, однако, к мигрантам-мусульманам, чтобы посмотреть, как они исполняют требования культовой практики во время своего пребывания в России. В целом, по трем субъектам РФ из общего числа респондентов, исповедующих ислам, заявили, что постоянно посещают мечеть, 15% граждан Турции, 13% — Таджикистана, по 7% — Пакистана и Узбекистана, 6% — Азербайджана и 2% — Казахстана. Указали, что посещают мечеть не часто,
55% граждан Турции, 53% — Пакистана, 33% — Туркменистана, 30% — Казахстана, 27% — Таджикистана, 23% — Узбекистана, 22% — Азербайджана и 20% — Киргизии. Признали, что вовсе не посещают мечеть, 70% граждан Киргизии, 67% — Туркменистана, 63% — Узбекистана, 57% — Казахстана, 47% — Таджикистана, 33% — Пакистана, 24% — Турции и 9% граждан Азербайджана. Уклонились от ответа 63% граждан Азербайджана, 13% — Таджикистана, 11% — Казахстана, 10% — Киргизии, по 7% — Узбекистана и Пакистана, 6% — Турции.
В среднем более или менее регулярно либо эпизодически мечеть посещает от 20 до 70% мигрантов из стран, обычно квалифицируемых как мусульманские. Даже в Пензе, где мечеть расположена рядом с центральным рынком, местом наибольшего скопления мигрантов, показатели посещаемости не превышают отмеченные выше. Получается, что по уровню религиозного рвения мусульмане не слишком отличаются от представителей других конфессий в составе внешних мигрантов.
Низкий уровень посещаемости религиозных учреждений вряд ли можно объяснить какой-то одной причиной. У представителя каждой конкретной конфессии есть на это, видимо, свои специфические мотивы. К примеру, для мигрантов, придерживающихся радикальных толкований ислама, таким мотивом может быть недовольство традиционной обрядовой практикой, осуществляемой в мечетях исламскими религиозными организациями тех или иных городов и сельских районов Мордовии, Пензенской и Саратовской областей. Впрочем, то же самое можно предположить и в отношении мигрантов-христиан. Их тоже может не удовлетворять культовая практика местных религиозных организаций.
Но даже со всеми этими поправками есть немало оснований утверждать, что опасения по поводу радикализации ислама в России из-за притока в нее мигрантов-мусульман явно преувеличены. Если «чужие» мусульмане и способствуют такой радикализации, то их негативное влияние реализуется по иным каналам — не по тем, по которым движется основная масса мигрантов-мусульман 25. Вместе с тем следует подчеркнуть, что на стратегии поведения этнических групп мигрантов-мусульман в российской провинции будет и впредь оказывать существенное влияние общая ситуация с исламом в стране, равно как и воздействующая на нее политика федеральных и региональных органов власти. В этом смысле нет принципиальной разницы между исламом, скажем, в Поволжье и исламом на Север- ном Кавказе. Ибо, как отмечал А. В. Малашенко, «ислам всегда был и остается не только религией, но и фактором, формирующим этническую идентичность, социальное устроение мусульманской общины, влияющим на ее политические ориентации. И чтобы эти ориентации не приобрели агрессивную направленность, российская власть должна выработать разумную стратегию и тактику своих действий в регионе» 26.
* **
Потребности российской экономики в притоке различных групп внешних мигрантов (рабочих, предпринимателей, мелких торговцев и т. д.) в настоящее время не удовлетворяются, а в будущем будут, скорее всего, только возрастать. Как следствие, будет повышаться заинтересованность этих групп в установлении устойчивых конфессиональных связей с собратьями по вере — российскими гражданами и с представляющими их интересы религиозными организациями. Ведь эти связи — важное условие успешной адаптации к новой этнокультурной среде, обретения дополнительных гарантий личной, групповой и этнической безопасности. «Маятниковый» характер миграции не ослабляет, а только усиливает у этнических групп мигрантов потребность в такой стратегии поведения. К тому же она будет не только находить понимание у их российских единоверцев, но и базироваться на общей заинтересованности в реализации совместных взаимовыгодных проектов.
Велика вероятность, что дальнейшее увеличение количества, численности и влияния нетрадиционных религиозных течений в российской провинции вызовет рост ксенофобии и религиозного радикализма у части россиян — у тех, кто ревностно охраняет «ценности традиционных религий» (или свои представления о них). И вполне возможно, что вокруг отдельных этнических групп мигрантов, на которых будут проецироваться такого рода общественные настроения, образуется поле межконфессиональной напряженности.
Риск ее возникновения будет тем меньшим, чем скрупулезнее органы власти, общественность и средства массовой информации на местном, региональном и федеральном уровнях будут осуществлять требования федеральных законов, регулирующих свободу совести и деятельность религиозных организаций. Но одновременно необходимо и столь же скрупулезное претворение в жизнь закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 22 июня 2002 года и закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 года.
Список литературы Этнические группы внешних мигрантов в конфессиональном пространстве российской провинции
- С. Филатов С., Лункин Р. Конец 90-х: возрождение религиозной нетерпимости//Нетерпимость в России: старые и новые фобии. Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко. М., Московский Центр Карнеги, 1999. С. 136-150.
- Религия и государство в современной России. Под ред. М. Б. Олкотт и А. Малашенко//Научные доклады Московского Центра Карнеги. М., 1997.
- Фактор этноконфессиональной самобытности в постсоветском обществе/Под ред. М. Б. Олкотт и А. Малашенко//Научные доклады Московского Центра Карнеги. М., 1998.
- Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. Под ред. Г. Витковской. М., Московский Центр Карнеги, 1997.
- Панарин С. Безопасность и этническая миграция в Россию//Pro et Contra, 1998. Т. 3, № 4. С. 5-25.
- Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России//Нетерпимость в России... С. 151-189
- Саратов -столица Поволжья, Саратов, 2001, 2 и 4 ноября.
- Крестовый поход на Пензу//Точка зрения. Пенза, 2000, 19 июля.
- Михайлов Г. Некоторые проблемы взаимоотношений государства и религиозных организаций в Российской Федерации//Религия и государство в современной России... С. 53-54.
- Национальный состав населения. Статистический сборник. Т. 2/Госкомстат РСФСР. Саратовское обл. управление статистики. Саратов, 1990. С. 24
- Курицын И.И. Население и хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998. С. 113.
- Конфликтология. СПб., Лань, 1999. С. 243
- Юнг К. Г. Синхронистичность. М., РЕФЛ-БУК ВАКЛЕР, 1997. С. 243.
- Священники-католики спасают души иностранных заключенных//Сто лица С. Саранск, 2001, 18 июля.
- Интерзона разгромила особый режим//Столица С, 2002, 19 июля
- Пядухов Г. А. Посредники в благотворительной деятельности: стратегии поведения, социальный эффект//Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. СПб., Лики России, 2001. С. 570-573.
- Лучшее -детям и старикам. Пензенские азербайджанцы объединяются//Молодой Ленинец, Пенза, 2000, 29 февраля
- Малашенко А. Исламские ориентиры Северного Кавказа. Московский Центр Карнеги. М., Гендальф, 2001
- Малашенко А. Исламское возрождение в современной России. М., Московский Центр Карнеги, 1998
- Поляков К. Влияние внешнего фактора на радикализацию ислама в России в 90-е годы XX в. (на примере арабских стран)//Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. Под ред. А. Малашенко и М. Б. Олкотт/Московский Центр Кар неги. М., Арт-Бизнес-Центр, 2001. С. 265-309.
- Евразийская партия России. М., 2002. С. 53.
- Ниязов А.-В. В. Евразийство как основа развития российского государства//Евразийская партия России. С. 16.
- Ялчинташ Н. Солидарность в исламе//Евразийская партия России. С. 21.