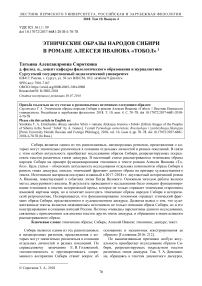Этнические образы народов Сибири в романе Алексея Иванова "Тобол"
Автор: Сироткина Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Сибирь является одним из тех разноплановых, неоднородных регионов, представления о которых могут значительно различаться в сознании отдельных личностей и разных поколений. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование образов Сибири, репрезентируемых посредством текстов различных типов дискурса. В настоящей статье рассматриваются этнические образы народов Сибири на примере функционирования этнонимов в тексте романа Алексея Иванова «Тобол». Цель статьи - обосновать актуальность исследования отдельных компонентов образа Сибири в разных типах дискурса, описать этнический фрагмент данного образа на примере художественного текста. Источником материала послужил изданный в 2017-2018 гг. двухчастный исторический роман А. Иванова, повествующий о событиях эпохи Петра Великого. Основным методом работы являлся метод дискурсивного анализа. В результате проведенного исследования было описано функционирование этнонимов в текстах исторической прозы, которое не только отражает этнические стереотипы языковой картины мира, но и помогает воссоздать этнические образы народов Сибири в исторической ретроспективе. Подчеркивается, что функционирование этнонимов отражает этнический фрагмент образа Сибири, представленного в художественном дискурсе. Делается вывод о том, что художественные тексты являются незаменимым источником не только описания образа Сибири, но и его конструирования в сознании жителей России. Поэтому очевидны перспективы данного исследования, связанные с привлечением для анализа текстов других типов дискурса, и обращения к иным аспектам рассматриваемого образа.
Этнические образы, сибирь, алексей иванов, этнонимы, дискурс, текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147226937
IDR: 147226937 | УДК: 821.161.1: | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-4-70-78
Текст научной статьи Этнические образы народов Сибири в романе Алексея Иванова "Тобол"
Сибирь является одним из тех разноплановых и неоднородных регионов, представления о которых могут значительно различаться в сознании отдельных личностей и разных поколений. По справедливому замечанию Е. В. Головневой, «неоднозначность и противоречивость современного восприятия Сибири ставит вопрос об основаниях и механизмах конструирования ее образов» [Головнева 2016: 212].
По вышеназванным причинам особую актуальность приобретает исследование образов Сибири, репрезентируемых посредством текстов различных типов дискурса. Так, Т. А. Демешки-на, обращаясь к текстам диалектного дискурса,
отмечает, что сибиряки осознают свое славянское происхождение, русскую идентичность, но видят и отличия по ряду признаков [Демешкина 2015: 108]. Н. Н. Родигина, описывая образ региона в учебной литературе по истории ХIХ в., констатирует, что «для учебной литературы характерно распространение в массовом сознании представления о Сибири как о «золотом дне», своеобразной кладовой, богатой природными ресурсами. Одновременно Сибирь рассматривалась как свидетельство территориального могущества русского государства, своеобразный ресурсный, в том числе и земельный, резерв империи» [Родигина 2006а: 192]. Художественные тексты, которые станут объектом нашего изучения, исследовательница в своей докторской диссертации относит к социокультурному уровню формирования образа региона, к которому, наряду с ними, принадлежат многочисленные научные описания, а также справочная и учебная литература [Родигина 2006б].
Материалом для настоящей статьи послужил опубликованный в 2017–2018 гг. двухчастный роман Алексея Иванова «Тобол», повествующий об исторических событиях эпохи Петра I на территории Сибири. «То было время, – пишут в одной из аннотаций издатели книги, – в которое творилась история российской Азии, да что там, всей России. Народы, веры перемешались. Пленные шведы, офицеры и чиновники, каторжники, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры, бухарские купцы и воинственные степняки-джунгары – все они вместе так или иначе повлияли на нашу ис-торию»2. Попытаемся рассмотреть с помощью метода дискурсивного анализа, каким образом репрезентируются этнические образы народов Сибири в тексте данного романа.
Необходимо отметить, что данная работа продолжает целый ряд исследований по геопоэтике урало-сибирского региона и, в частности, геопоэтике текстов А. Иванова. Как справедливо отмечают литературоведы, интуиция автора «превращает его пейзажи в геопоэтические образы» [Абашев 2012: 147], а «программный и художественный убедительный регионализм А. Иванова» оказывается «в высшей степени востребованным» [Подлесных 2008: 3].
В своем интервью журналу «Эксмо» в марте 2018 г. писатель говорит о том, что «большая часть нашей страны – terra incognita, пространство, известное только небольшому числу региональных историков». Наверное, поэтому он всю свою жизнь пишет исторические романы, желая открыть читателю неизведанные земли и непознанные пространства. Почему автор обратил свой взгляд еще дальше на север, переместив- шись с Урала в далекую, порой неизведанную Сибирь? Ответ, как думается, лежит на поверхности. Поскольку, как отмечают исследователи, «Алексея Иванова эстетически притягивает древнее, неведомое, вышедшее из темных и страшных земных глубин» [Абашев 2012: 147]; север Западной Сибири явился для него тем местом, где еще больше, чем на Урале, нераскрытых тайн и реалий старины, регионом, геопоэтически еще более ярким и насыщенным. И хотя, по словам А. Иванова, «определение региональной идентичности не было главной задачей этого романа», он все же ставит своей целью «показать многомерность мира через восприятие представителей разных культур»3. И это автору блестяще удается. Удается прежде всего посредством реализации в тексте двух основных оппозиций: «свои – чужие» и «коренное население – пришлое население». Несмотря на значимость отнесения определенных реалий к конкретной этнической культуре, важнее для автора, как представляется, показать «многомерность мира», о которой он говорит, существующую даже в рамках определенного ограниченного пространства, в котором происходят события романа.
Через все произведение проходит идея равноправного существования на севере разных этносов. И русские, и остяки, и татары строят здесь дома, ловят рыбу, находят золото: «Но порой золото вываливается из-под плуга мирного пахаря – татарина или русского слобожанина » (здесь и далее курсив наш. – Т. С. ) [2017: 137]4. Различия в их быте и культуре создают то этническое многообразие, которое складывается в сибирскую этническую мозаику: «Вокруг флотилии сновали крестьянские насады и шитики, татарские каюки и легкие обласы инородцев, очертаниями схожие с луками, – судно губернатора сопровождали зеваки из окрестных деревень» [там же: 83]; « Русские солдаты ничем не отличались от шведов , даже свои ружья они свалили в обозные сани, в которых везли провизию и скарб» [там же: 18].
Подробно описывает Алексей Иванов особенности быта, культуры, традиционные занятия разных этносов: « Тобольские бухарцы , которых возглавлял Ходжа Касым, летом на судах объезжали становища инородцев на Оби ниже устья Иртыша и покупали пушнину» [там же: 31]; «Посреди двора стояла корова; сидя на лавочке, ее доила русская баба » [там же: 184]. Многочисленные предметы и явления имеют в произведении А. Иванова этнические маркеры, не только выполняющие функцию реально-исторической достоверности, но и создающие национальнокультурные образы. Так, отэтнонимные прилагательные маркируют в тексте романа:
– представителей разных этносов: «Вместе с другими вогульскими женщинами она стояла за жердяной изгородью и слушала спор» [2018: 86]; «Из-за какой-то девки остяцкой , поджигательницы, холопки на железо грудью кидаться – это сколько ума надо?» [там же: 260];
– особенности их внешности: «Ваня рассчитывал увидеть в зайсанге пугающего величием степного вождя, но увидел свинорожего мужика с узкими глазами; монгольские усы и бородка тонкой черной нитью опоясывали презрительно изогнутый жирный рот; накладные кожаные латы топорщились, как шишка» [там же: 187];
– их жилища: «Дом Нахрача ничем не отличался от других вогульских домов » [там же: 523];
– элементы национальной одежды: «Ренат снял рукавицы, сбросил с головы джунгарский колпак с ушами и посмотрел в серое небо»;
– характерные для национальной культуры обычаи и особенности поведения: « Монголы не любили оставлять указаний тех мест, где под травами спят их властелины» [там же: 101]; «Я вижу мужество сердечное в том, что ты не утаил согрешений остяков : как они детей продают в невольники, как лечиться отказываются, как в многоженстве погрязли» [там же: 367];
– объекты небесного пространства: «Иртыш призрачно и просторно светлел в темноте шевелящимся ледоходом, а в черном небе мерцали джунгарские созвездия , перекрещиваясь, будто следы степных колесниц, – никто не узнал их древних названий» [там же: 353] (окружающая героев природа всегда в текстах писателя является олицетворением души того народа, который проживает на данной территории);
– особенности вероисповедения и религиозных обрядов: « Джунгары верили в Барахмана и своих покойников сжигали, бросали в степи на съедение зверям либо отправляли в Тибецкие горы, в Лхасу» [там же: 102]; « Раскольщицкий мир – вторая вселенная; он всюду, он невидим, но все опутал заповедными тропами; у него везде – свои люди и свои пристанища» [там же: 227]; «Теперь я знаю, почему вы, русские, так упрямо тащите Христа в наши леса. Вам надо, чтобы у нас была такая же сила, как у вас» [там же: 423]; «В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими поселенцами » [2017: 81].
А. Иванов описывает истории удачных и неудачных попыток крещения остяков-инородцев: «Возле села Самаровский Ям Иртыш впадал в Обь, и тут Филофей ходил на языческие капища Белогорья, укрытые в дебрях чугаса – остяцкого божелесья» [там же: 192]; «Владыка требовал от воеводы снарядить гишпедицию на Обь, чтобы крестить инородцев – воевода дал дырявую посудину с драным парусом, и березовские остяки только посмеялись над попами-нищебродами» [там же: 78].
Представитель любого этноса решает для себя вопросы веры исходя из сложившейся ситуации: « Эстляндский немец , он был протестантом и старался не ходить в русские православные храмы » [там же: 50]; «Ему жалко было своих людей, которые ничего не могли возразить этому русскому шаману , и жалко было лесных богов, которых русский шаман объявил злыми духами» [там же: 194]. Звучат в романе и отголоски до-языческой эпохи, о которой вспоминает один из героев: «Ежели те люди, что исписали скалу, не знали одежды, выходит, не знали и бога – не только Христа или Магомета, но даже вогульских и остяцких божков » [там же: 223].
Этнические определения имеют многие предметы быта. Не только татары в Сибири носили татарские халаты, татарские чекмени, не только китайцы пользовались китайскими веерами, не только русские, но и иноземцы ходили в треуголках и пользовались русской посудой: «Матвей Петрович выбежал, в чем спал, – в татарском халате » [там же: 141]; «Возле ограды, гомоня и пересмеиваясь, околачивались зеваки и покупатели: приказчики, служилые, казаки-годовальщики, бухарец в татарском чекмене , монастырский эконом в рясе, захлестанной понизу грязью, какие-то шныри разбойного вида» [там же: 122]; «Довольный собою, Табберт поднялся, взял с полки хрупкий китайский вее р с журавлями и розовыми цветами вишни и напоказ для Айкони начал томно обмахиваться, как дама, закатив глаза и открыв рот» [там же: 220]; «На голове у степняка была нахлобучена русская треуголка , к груди степняк прижимал русский горшок – видимо, с кашей в дорогу» [2018: 167]. Используемые иноземцами предметы быта не случайно маркируются автором как русские – А. Иванову важно показать неизбежное взаимовлияние и взаимопроникновение культур в условиях совместного существования, и он отражает это не только в мирных бытовых сценах, но и в сценах военных баталий, когда представители разных этносов испытывают одни и те же чувства, страдают одинаково: «Все перепуталось с сумятице, топоте и снежной пыли: руки, локти, плечи, лошадиные гривы, сабли, пики, копья, искаженные лица, шведские проклятья, русская брань и монгольские ругательства» [там же: 302].
В романе «Тобол», как и в других исторических произведениях автора, яркую репрезентацию получают этнические стереотипы. Основная функция стереотипизированных высказываний – репрезентация оппозиции «мы (правильные) – они (неправильные)», существующей в языковой картине мира любого народа. В этом смысле ге- рои романа, давая оценку тем или иным национальным предметам в зависимости от их качества, выражают как раз данную смысловую оппозицию: «– Возьми нашу бумагу, бухарскую. – Дрянь ваша бумага, – уверенно заявил Ремезов» [2017: 118]; «Немецкие хоромы хлипкие! Палками подперты!» [там же: 96]; «Крестьянские лошади, конечно, уступали джунгарским в беге, но кони степняков уже утомились за полдня» [2018: 114].
При всей пестроте этнической мозаики, репрезентируемой автором, он отражает в «Тоболе», как и в других своих произведениях (ср. комментарий в одном из интервью прошлых лет: «Мы – русские люди – люди реки. И нам у них [вогулов] в лесах – страшно»), русские национально-культурные стереотипы. Оценка героями определенных черт характера представителей других этносов (немецкой педантичности, бухарской хитрости, остяцкой наивности) воспринимается через призму авторской оценки этих качеств, в которой ярче всего реализуется оппозиция «свое – чужое». Так, например, герои романа воспринимают попытку приехавших в Сибирь немцев навести порядок во всем как вторжение на чужую территорию, в чужую жизнь: «Раньше Бухгольц вызывал у него раздражение: приперся из столицы ни с того ни с сего, никому почтения не оказал, да еще принялся переустраивать все на немецкий лад» [там же: 40].
Непривычные для русских героев романа этнические реалии сравниваются с привычными и понятными им: «Поганая на вкус кислятина обожгла, как русская водка» [там же: 211]. Вместе с тем показаны в тексте попытки освоения инородцами русского культурного пространства: «На голове у степняка была нахлобучена русская треуголка, к груди степняк прижимал русский горшок – видимо, с кашей в дорогу» [там же: 167]; «А джунгары калмыкам кто? Братья? – Ренат тщательно выговаривал эти головоломные русские названия народов» [там же: 158]. Они пытаются найти способы существования в тех условиях, в которых оказались, поскольку понимают: «Бесконечные русские пространства держат нас в плену надежнее, чем цепи и кандалы» [2017: 304]. Особое отношение автора к русским связано, как представляется, не только с принадлежностью к данному этносу, но и пониманием им как историком огромного значения освоения Сибири для дальнейшего развития страны. «Когда в ХХI веке ты целый день едешь на машине от Тюмени до Сургута, ты понимаешь, – говорит он, – какие это гигантские расстояния. Понимаешь, что люди, которые отправлялись в путь на утлых суденышках, уже точно руководствовались не одной лишь материальной выгодой, но еще и какими-то другими соображениями. Осво- ение Сибири, действительно, было пассионарным выплеском нации, и его можно ощутить по тем расстояниям, которые русскими преодолены»5.
Коренным жителям Сибири – остякам – приходится осваивать язык и культуру пришедших сюда русских, и постепенно им это удается: «Айкони не понимала, о чем сейчас без слов до-говарились эти сильные мужчины, да она почти и не разбирала русскую речь » [там же: 57]; «У Ремезовых была работница – остячка Пеуди. Поначалу и говорить по-русски не умела, а затем ничего, освоилась» [там же: 126]. Вместе с тем остяки на протяжении всего текста романа предстают простодушными и даже немного наивными, беспрекословно подчиняющимися воле своих богов и не ждущими подвоха от других людей. Однако на примере остячки Айкони автор показывает нам их способность к любви и самопожертвованию, несгибаемую волю в разных жизненных ситуациях. Русские, в свою очередь, осваивают те культурные традиции других этносов, которые кажутся им наиболее прогрессивными: «– У него духовный тэатр, – важно добавил келарь. – Зрелища разные богоугодные с поучениями. Хохляцкая придумка » [там же: 73]. К быту же и традициям коренных народов – только присматриваются, понимая, что все эти традиции удастся использовать лишь частично: «Ерофей приглядывался к хитростям остяцкой жизни : как остяки плетут из лозы ловушки на песца? Как выгибают полозья лыж? Как сушат юколу, распирая потрошеную рыбу прутиками?» [там же: 39]. Если же «свои» начинают бездумно подражать «чужим», это оценивается отрицательно: «Вырядился, как немецкая баба: овечьи кудри, грудь в кружевах, камзол с оттопыренным задом, на рукаве бант, короткие порты с пуговицами, чулки, – тьфу, мерзопакость» [там же: 89]. Однако в какой-то момент может происходить переоценка привычных взглядов и представлений: «Но сейчас Новицкий вдруг понял, что остяки – не идолы. Они могут быть красивыми» [там же: 202].
Представители любого «чужого» этноса выглядят непривычно, как, например, непривычно для русских выглядят пленные шведы, которых было много в Сибири: «Неподалеку от дьяков и пушек губернатора ожидали пленные шведы – почти все рослые, белобрысые, в потрепанных париках, посыпанных мукой, и в непривычных русскому глазу камзолах» [там же: 5]. Поэтому восприятие «других» связано с процессом стереотипизации: « Остячек он не мог различить между собой: все мелкие, круглолицые, смуглые, не поймешь, молодые или старые» [там же: 39]; «-Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?» [там же: 7].
Автор отражает в тексте не только русскую картину мира, но и картину мира инородческого населения Сибири. Так, коренные этносы зачастую воспринимали русских как стихийное бедствие, с которым трудно справиться, поэтому нужно как-то научиться жить с ним: «В отличие от других остяков, Пантила не верил, что русские – колдуны. Он не боялся русских, он ездил на ярмарки и в Березов, и в Тобольск. Власть русских была не в колдовстве. Все русские, даже какой-нибудь последний нищий на ярмарочной площади, имели в себе безоговорочное убеждение, что тут, в Сибири, они самые главные. Они приходили и брали, что пожелают, и даже удивлялись, когда им не хотели давать. Они не сомневались в своем праве. И про меру они тоже не думали – забирали больше, чем надо, могли забрать вообще все, и не испытывали вины. Русские были не народом, а половодьем» [2017: 43].
От названий этносов образованы многочисленные топонимы, образующие и организующие сибирское пространство романа: «Вон справа – остроугольный Чувашский мыс , вернее Почеваш, – верхний по течению Иртыша конец Ала-фейской гряды» [там же: 82]. С казаками, игравшими основную роль в освоении Сибири, также связаны некоторые топонимы, например, Казачий взвоз в Тобольске: «На праздничную службу он решился пойти в Никольскую церковь, что стояла возле Орловской башни Софийского двора над Казачьим взвозом» [там же: 139]. Известный исследователь того времени, Семен Ульянович Ремезов, пытается изучить и описать по различным документам той эпохи всю историю Сибири: «В углах высились поставцы с кораблями, в которых хранили склеенные в свитки бесчисленные бумаги – «отписки» воевод, казачьи «сказки», «расспросные речи» и сыскные дела Сибири» [там же: 131].
Многочисленны в тексте описания старообрядческого населения Сибири. « Раскольников как тараканов!» [там же: 133] – восклицает в сердцах один из героев романа. «Ссыльных раскольников , – пишет автор, – которых пригоняли в Тобольск, обычно помещали в архиерейские казематы» [там же: 209]; «Звеня цепями, теряя в грязи березовые лапти, раскольники брели по улицам Тобольска к Прямскому взвозу» [там же: 205].
Использование абстрактных понятий ( русское державство, царская неметчина ) позволяет героям делать выводы и обобщения: «А сейчас этот архитектон попрекает его, будто он запамятовал, на каких опорах русское державство стоит» [там же: 104]; «Царская неметчина со всеми ее париками и шпагами, экзерцициями и форте-циями Матвею Петровичу и самому не слишком нравилась» [там же: 104].
Необходимо отметить, что писатель свободно оперирует этнонимической лексикой, используя в зависимости от ситуации различные формы этнических имен. Если этноним русские встречается в тексте авторских комментариев или речи персонажей, хорошо владеющих русским языком, то в речи иноземцев функционирует форма орыс : «Этот русский не понимает, как надо жить. Он только богу молиться может» [2018: 88]; «Встань, орыс, – приказал он по-русски» [там же: 116]. Этнонимы и сочетания с отэтнонимными прилагательными равномерно распределены по всему тексту романа, выполняя самые различные функции: номинации персонажей, создания исторического контекста повествования, стилистической характеристики предметов, репрезентации особенностей национальной культуры, в результате чего в произведениях Алексея Иванова перед читателем разворачивается картина многонационального и поликультурного региона России – Сибири, в которой сосуществуют (когда-то мирно, когда-то конфликтно) представители различных этносов. С помощью описания особенностей внешности, традиционной одежды, верований, занятий представителей того или иного народа через текст писателя проходит идея толерантности, взаимопроникновения и взаимо-обогащения различных культур, которые являются основой развития данного региона как одной из интереснейших в самых разных отношениях территорий России.
Несмотря на пеструю этническую мозаику описываемого региона, автор уделяет особое внимание коренным жителям края – народу ханты. Даже ярые критики романа отмечают, что «Иванов великолепен в пересказе мифов» [Мильчин 2018]. Хочется отметить при этом, что хантыйские мифы настолько незаметно вплетены в текст романа, что он немыслим без этой яркой составляющей, а пересказ их настолько необходим, насколько необходимо присутствие в тексте хантыйского начала, без которого образ Сибири в романе был бы блеклым и неполным: «Ей теперь тоже было с кем говорить. Нахрач принес ей настоящий огонь – не тот, который соскакивает с кремня, чтобы согреть человека в пути и затем умереть, а родовой огонь из священного очага. В этом огне жила маленькая веселая женщина Сорни-Най в красном платье. Когда-то она была дочерью бога Торума, хозяина неба. Некий молодой охотник полюбил ее, превратился в ласточку и похитил у Торума, бог только успел метнуть вслед похитителю молнию, которая надвое рассекла ласточкин хвост. А Сорни-Най с тех пор жила у людей на земле» [2018: 58].
Авторское восприятие Сибири, по-видимому, отражено в восприятии ее одним из русских ге- роев данного романа – владыкой Филофеем: «Владыка Филофей озирался по сторонам. Он понимал, что впервые в жизни очутился в настоящей Сибири – лешачьей, матерой и дикой. На дощанике посреди реки или в санях на лесном тракте – это не то; на поляне у берега или даже в глухой деревушке инородцев – тоже не то. Сейчас он погружен в Сибирь, как в это болото, и шаг в сторону легко погубит его. Он не просто пробирается через трясину; он – мошка, что ползет по рылу чудовища: чудовище может смахнуть его лапой, а может и прихлопнуть. Но здесь яснее, чем в храме, ощущается присутствие бога. Господь спасает человека даже в бездне, а подлинная Сибирь – воистину бездна» [2018: 553].
Язык романа был по-разному оценен критиками. Д. Быков назвал его «некрасивым и несъедобным», Ксения Кузнецова – «простым и прямолинейным», С. Беляков – «экзотическим». Однако представляется, что в «Тоболе» А. Иванов, с одной стороны, расширяет свой опыт «погружения» в местную языковую среду, как он делал в своем первом историческом романе «Чердынь – княгиня гор», с другой – продолжает традицию «научного» осмысления определенной территории, удачно продемонстрированную в романе «Меssage: Чусовая», в результате чего возникают симбиоз смыслов и взаимопроникновение стилей, которые можно оценить как следующую, более высокую ступень эволюции творческой манеры писателя, свободно «переключающего» рычаги различных культурных кодов и обладающего внутренней свободой человека, освоившего данное географическое, историческое, культурное пространство. «Смешивая жанры, я получаю стереоскопическое изображение давней эпохи»6, – говорит автор. И это смешение позволяет ему показать Сибирь глазами представителей разных этносов, дав возможность читателям рассмотреть данную территорию не однолинейно и одномерно, а, образно говоря, в 3D-изо-бражении.
Необходимо отметить особое место этнонимии в индивидуально-авторской картине мира. Этнонимы, используемые автором, являются, по нашему мнению, как раз отголосками «древнего и неведомого», того, что до конца постичь невозможно. А. Иванов использует этнические имена не только в исторической прозе, но и в текстах, посвященных современной жизни: «У меня есть собственные созвездия, мои. Вот они – Чудские копи, Югорский истукан, … Вогульское копье. Целый год я не видел их такими яркими» [Иванов 2005а: 399]. Даже современного городского жителя, попавшего в условия туристического похода, Иванов называет «вогулом»: «Овогулившийся человек – это человек, три дня пивший на свежем воздухе и спавший на сырой земле… В обычной жизни он был начальником какой-нибудь фирмы или программистом, а сейчас – вогул» [Иванов 2005б: 3]. В этой авторской характеристике мы видим не просто авторскую иронию, а уважительное отношение писателя к особо значимому для его авторского сознания этносу, слову, реализующему в разных контекстах коннотации «близкий к природе, умеющий жить по законам природы», «исконный, древний», «правильный».
Таким образом, функционирование этнонимов отражает этнический фрагмент образа Сибири, представленного в художественном дискурсе, а художественные тексты являются незаменимым источником не только описания образа Сибири, но и конструирования этого образа в сознании жителей России. Теоретическая значимость исследования этнонимии исторической прозы А. Иванова заключается в углублении представлений об особенностях функционирования этнических имен в художественных текстах, важных не только для современной этнонимики, но и лингвокультурологии, этнолингвистики, геопоэтики. Говоря о практической значимости работы, важно подчеркнуть наличие широких возможностей сопоставительных исследований в данном направлении, перспектив создания учебно-методических разработок, а также, безусловно, актуальность лексикографического описания этнонимии художественных текстов в региональном этнонимическом словаре.
Associate Professor in the Department of Philological Education and Journalism
Surgut State Pedagogical University
ResearcherID: D-5802-2018
Список литературы Этнические образы народов Сибири в романе Алексея Иванова "Тобол"
- Абашев В. В., Абашева М. П. Литература и география. Урал в геопоэтике России//Вестник Пермского университета. Серия: История. 2012. Вып. 2(19). С. 143-151.
- Галян С. В., Ларкович Д. В., Сироткина Т. А. Филологический анализ регионального (югорского) текста: учеб. пособие. Тюмень, 2017. 168 с.
- Головнева Е. В. Формирование образа Сибири в процессе ее колонизации//Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2016. Вып. 4. С. 211-220.
- Гололобов Е. И. Сибирский север: динамика образа -от barren grounds к northern plain//Quaestio Rossica. -2017. -Т. 5. № 1. -С. 137-152
- Демешкина Т. А. Славянский компонент в самоидентификации жителей Сибири//Русин. 2015. № 3(41). С. 90-107.
- Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, 1999. 256 с.
- Иванов А. Географ глобус пропил. СПб.: Азбука-классика, 2005а. 512 с.
- Иванов А. Тобол. Мало избранных: романпеплум. М.: АСТ, 2018. 832 с.
- Коршунков В. А. «Дорога -Сибирь!»: образ Сибири и сибирские дороги в XIX веке//Образы России, её регионов в историческом и образовательном пространстве: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию Новосибирского гос. пед. ун-та. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. С. 153-157.
- Лазареску О. Г. Сибирь, Ермак и другие: к вопросу об исторических трансформациях литературных жанров, образов и мотивов//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2017. № 5. С.122-130.
- Мильчин К. «Тобол. Мало избранных» Алексея Иванова: как российский писатель с чертом договаривался//ТАСС. Информационное агентство России. 2018. 2 февр. URL: tass.ru/opti-ons/4924682. (дата обращения: 17.07.18).
- Подлесных А. С. Геопоэтика Алексея Иванова в контексте прозы об Урале: автореф. дис.. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 24 с.
- Родигина Н. Н. Образ Сибири в учебной литературе по истории XIX в.//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2006а. С.185-195.
- Родигина Н. Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX -начала XX в.: дис.. д-ра ист. наук. Новосибирск, 2006б. 477 с.
- Сверкунова Н. В. Региональная сибирская идентичность: опыт социологического исследования. СПб., 2002. 192 с.
- Сироткина Т. А. Этнонимы в пространстве художественного текста//Пушкинские чтения -2018. Xудожественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст. СПб., 2018. С.387-393.
- Сироткина Т. А. Этнонимы в региональных художественных текстах как маркеры национальной идентичности//Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности. Елабуга, 2017. С. 218-220.
- Dacewicz L. Etnonimy w slownikach ogolnych jzyka polskiego i rosyjskiego//Slavia orientalis. 2016. Vol. LXV, № 2. Р. 363-375.
- Иванов А. Овогуливание «чайников»//Premium-club. 2005. Декабрь. С. 3.
- Иванов А. Тобол. Много званых: романпеплум. М.: АСТ, 2017. 704 с.